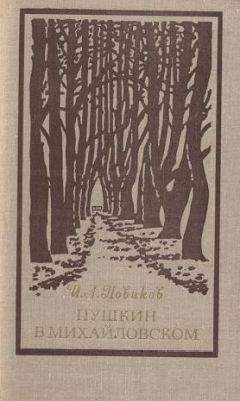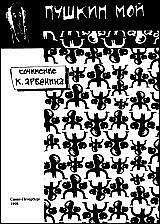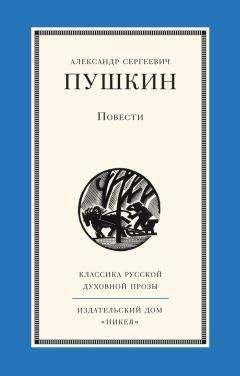Иван Новиков - Пушкин на юге
— Мне очень хотелось бы в Петербург, но ежели будет война, пусть оставят меня в Бессарабии.
Так вечный мир был далекой мечтой, а жизнь и звала, и говорила другим, сегодняшним голосом.
— Вы были, Владимир Федосеевич, за Владимиреско?
— Да, он стоял ближе к народу.
— А я боялся всегда, что для Ипсиланти он будет помехой. Помехой к тому, чтобы Россия вступила в войну. Императора нашего это, наверное, очень пугало.
Раевский молчал. Неужели и он, так же как Пестель, был против того, чтобы Россия выступила на стороне Ипсиланти? Но прямо об этом спросить Александр не хотел, хотя это так для него и оставалось неразрешимой загадкой. Если уж спрашивать, так у самого Павла Ивановича. А когда он увидит его? И увидит ли?
А Раевский заговорил между тем об Овидии. Это было едва ли не излюбленной темой бесед между Пушкиным и Липранди. В эти разговоры Раевский редко вступал, но Александр теперь Овидия много читал, невольно его судьбу сочетая со своею судьбой, и Владимир Федосеевич прозвал его Овидиевым племянником.
Об этом он заговорил и сейчас.
— Что это вы вдруг перешли на моего дядюшку? — спросил Пушкин, смеясь.
И взглядом добавил: «Я понимаю, просто затем, чтобы переменить разговор?»
Кажется, это было действительно так, но Владимир Федосеевич уже говорил с истинным одушевлением, и тема была горяча: он говорил о судьбе поэта.
Вельтман лежал, но не спал. Он был очень рад нежданным гостям и не смущался так, как всегда. Рука его была горяча, горели глаза. Ему рассказали о Ларине, но он едва улыбнулся, хотя вообще был по–детски смешлив. Его занимали другие какие–то думы.
— Вы помните, как–то мы с вами, — заговорил он, не отрываясь взглядом от Пушкина, — присели однажды на берегу реки Бык, а в грязной заводи лебедь, домашний конечно, купался в мутной воде… И вы еще вспомнили своих, царскосельских. Но тут на берегу реки Бык и вдруг лебедь! Не правда ли, в этом было и нечто мифологическое?
— Это как раз Александр Сергеевич и любит, — заметил Раевский.
— Не только что любит, а и сам он, вы понимаете… Но, конечно, не он, а тот лебедь вышел на берег и этак победно, торжественно распростер свои крепкие крылья и потряс ими под солнцем, скидывая с себя приставшую грязную нечисть. И купался он теперь уже не в воде, а в солнечном свете и был опять без единого пятнышка, белоснежен, прекрасен. И я глядел на него, и у меня была радость.
Не только что сам Александр, но и Раевский слушали эту быструю и вдохновенную речь с некоторым смущением.
— Но это лишь образ, — сказал Вельтман внезапно упавшим голосом, — это, как бы сказать, не научно. А между тем у вас есть своя биография.
Тут он вздохнул и замолк.
— Вот и я говорил по дороге Александру Сергеевичу, — промолвил Раевский, чтобы нарушить молчание, — я говорил, что потом и о нем так же будут гадать, как об Овидии, где он жил да как ездил, где останавливался и за что попал в ссылку.
— Непременно, — ответил Вельтман с непривычной для него энергией. — Непременно! Пушкин в плаще, и плащ его покроет всю Россию.
Оба они привыкли к некоторой причудливости в выражениях-Александра Фомича, но так. он еще никогда не говорил.
— Да вот, — продолжал Вельтман. — Не верите?
И он протянул небольшой листок, исписанный карандашом. Раевский принял его.
— Ну, так и быть, прочтите. Это, Александр Сергеевич, маленькая ваша биография и предсказание будущего.
Раевский начал читать:
— «Александр Фомич Вельтман. 9 час. вечера t°39,7. Вельтман в Кишиневе: э-э, знаю я, по степям ехал, крылышки отращивал. В Крыму, на Кавказе ноженьки крепил: скакать, как кузнечик! Вдоль моря скакал, зелень его набирал, песни подслушивал. А тут в Бессарабии брюшко отращивает со всеми инстинктиками, и хоть у меня 39 и 7, оттого и причудливость в выражениях, но знаю также и то, что головушку окончательно отрастит и затрепещется и заиграет только в Одессе. Ноктюрн в предбаннике у сатаны. Но только что, Вельтман, ты врешь, Пушкин в плаще, и плащ его покроет всю Россию».
Раевский и Пушкин переглянулись. Вельтман лежал, закрыв глаза. Казалось, он впал в беспамятство.
— Что это, бред? — сказал Раевский тихонько. — Вы что–нибудь ему говорили о своих планах с Одессой?
Пушкин кивнул ему головой утвердительно.
— Надо бы доктора.
Это Вельтман расслышал.
— Нет, нет! Я засну и завтра буду здоров. Прикройте меня… плащом. — И он повернулся на правый бок. — Мне становится холодно.
Когда приятели ушли, он полежал немного спокойно. Потом приподнялся на локте, взял свою запись и поднес к пламени горевшей у изголовья свечи. Убедившись, что все сожжено, он улыбнулся, дунул на свечку и потянулся по–молодому, «торопясь выздоравливать», как сказал бы он сам на причудливом своем языке.
— Вот чудотвор, — отозвался на обратном пути Владимир Раевский. — Такого градуса, кажется, ни разу еще он не давал. Но все же высоко ценит он вас.
— Да, — отвечал задумчиво Пушкин. — Но это надо еще оправдать. А вот, что брюшко я отращиваю, и об инстинктиках. Брюшка у меня нет, а что до этих самых инстинктиков… Раевский, он прав, их у меня еще сколько угодно!
На одном из перекрестков они распрощались.
Странный был человек этот Вельтман! Он писал пустяковые стишки о кишиневских балах и о дамах и скрывал, что он их сочиняет, хотя куплеты его были легки и имели шумный успех. Но голова его полна десятками замыслов, всегда очень причудливых. Раз Пушкину он прочитал свою молдаванскую сказку в стихах «Янко–чабан», про великана и дурня, который, обрадовавшись, так рос, что скоро не стало места в хате отца, и возросший младенец, проломив «ручонкою» стену, вылупился из хаты, как из яйца. Пушкин так хохотал тогда! И вот, в сорокаградусном жару, сам он как бы вылупился из яйца — в этих причудливых строчках, которые дал им прочесть.
И как бы сами собою ноги Пушкина направились не прямо домой, а в обход, хотя на прямом пути он мог бы зайти еще, дабы довершить этот пестренький день, ко вдове Полихрони, бежавшей сюда из Константинополя со своею молоденькой дочкой Калипсо, в которой было нечто оригинально–красивое. Сама вдова была ворожея и волшебница, при заклинаниях седые волосы на ее голове становились дыбом, и черная шапочка плясала на волосах. А дочка ее, Калипсо, заунывно и в нос пела турецкие песни, перебирая струны гитары. Кажется, Байрон слушал ее и приветил…
И все же Пушкин пошел окольной дорогой, хоть и знал, что тот дом, мимо которого ему захотелось пройти, конечно, давно уже темен. «Пусть спит!» — подумал он и улыбнулся. Спала, набегавшись за день, пятилетняя чудесная девочка Родоес Сафианос, дочь грека–героя, павшего в битве под Скулянами. Он обнял однажды худенькие ее плечи и девочка, не избалованная лаской, вся прижалась к нему горячим тельцем, как пичуга, гонимая бурей и скрывшаяся под застреху. Он вспомнил тогда и тех птичек, что, пролетая на юг, разговаривали с ним трепетом своих крыл.
Из очередной получки небольшого своего жалованья, начавшего поступать из Петербурга, он, тайно от всех, передал для нее какую–то долю. Пусть думают все, что хотят, о его поведении, порою приписывая и то, чего не бывало. Что за беда! Но этого пусть никто и никогда не узнает. А вот Овидиеву племяннику пора бы куда–нибудь и прогуляться. Кажется, будет командировка у Липранди. Не проехаться ли с ним по Овидиевым местам?
С этими мыслями Пушкин и уснул. Еще один кишиневский денек канул в вечность.
В ночь с четвертого на пятое декабря закрыта была в Кишиневе масонская ложа Овидий.
За несколько дней до того Иван Никитич Инзов получил из Петербурга запрос от начальника генерального штаба князя Волконского, сообщавшего, что до государя дошли сведения об открытии или учреждении масонских лож в Бессарабии.
Князь, между другими вопросами, предлагал его превосходительству генералу Инзову «касательно Пушкина донести его императорскому величеству, в чем состоят и состояли его занятия со времени его определения к вам, как он вел себя и почему не обратили вы внимания на занятия его по масонским ложам? Повторяется вновь вашему превосходительству иметь за поведением и деяниями его самый ближайший и строгий надзор…»
Вопросы были остры и отвечать на них не так просто. Инзов и сам был масон, и Пушкин был принят в кишиневскую ложу еще с начала мая. Но Иван Никитич был верен своему спокойному нраву, и перо в руках держать он умел «Следуя в том представителям благородного пернатого царства, исключение из коего совы да филины представляют», — он продолжал быть верен своему коренному обычаю: ложиться не поздно и рано вставать, отводя иногда утренний час для одиноких своих письменных занятий. Так он поступил и теперь.
Но на сей раз и утром не бойко ходило перо его по бумаге и не раз и не два он задумывался, порою даже покряхтывая и бородкой пера поглаживая наморщенный лоб. Надобно было все отрицать… Но он основательно полагался, как и всегда в трудных случаях, на спасительные туманности канцелярского стиля.