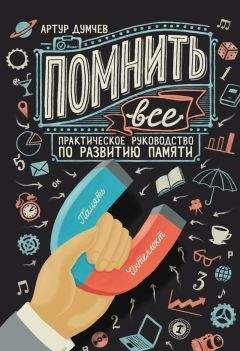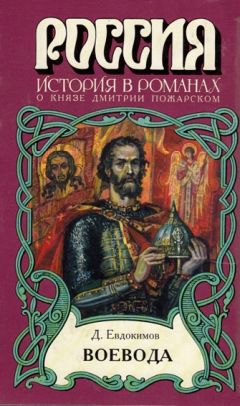Николай Евдокимов - У памяти свои законы
«Я поеду туда», — решила Нюрка, поняв, что пришло время исполнить материнское желание, найти для себя в дальней дороге душевное согласие, а черепаху отвезти доживать век в высоких горах возле тонконогих горцев, пасущих овец и танцующих лезгинку.
Она выпросила на работе недельный отпуск, выписала полагающийся ей бесплатный билет и отправилась к прекрасному морю, которое пока еще жило где-то в ином пространстве, независимо от Нюрки и от Нюркиной жизненной судьбы. Ей предстояла немалая дорога с двумя пересадками.
Сначала путь ее пролегал по маршруту того поезда, где она служила проводником, ей было странно и удивительно чувствовать себя пассажиром на знакомой дороге, на знакомых станциях.
В Неясыти ее встретил Борис Гаврилович, которому она послала телеграмму, что будет проезжать мимо его нового местожительства. Они ходили по нагретой солнцем платформе. Борис Гаврилович смотрел на Нюрку, улыбался тихой улыбкой и не спрашивал ее о жизни и здоровье, как полагается спрашивать после продолжительной разлуки, а все время рассказывал о себе и о радостях своего нового существования.
— Нюра, милая, — вдруг виновато сказал он. — Я говорю и говорю, а ты молчишь. Извини, я до неприличия счастлив. Наверно, это смешно...
Он в самом деле был немного смешон незнакомой Нюрке в нем прежде размягченностью. Он был как несмышленый ребенок, а она, Нюрка, — как взрослая, умудренная жизнью женщина. Она хотела поделиться с ним своими печалями и заботами, но не стала: как-то неловко и вроде бы даже стыдно изливать свои невзгоды тому, у кого много благополучия и умиротворения — забывший свои страдания не поймет и чужих. Нюрка не знала, забыл Борис Гаврилович в новой жизни свои прошлые одинокие страдания или еще не успел забыть, но не стала ничего рассказывать. К тому же чувствовала, что рядом с его радостью, с его душевным покоем все ее печали — как ушедший сон или отболевшая рана.
Объявили отправление. Нюрка чмокнула Бориса Гавриловича в гладкую бритую щеку и ушла в вагон. Она высунулась из окошка, чтобы помахать на прощанье, и он сказал:
— Ах, забыл! У тебя где пересадка? Не в Косино?
— В Косино, а что?
— Я тебе напишу адресок, возьми, пожалуйста... Будет время, зайди... Там сын Веры Александровны в командировке...
— Какой Веры Александровны?
— Ах, господи, — удрученно сказал Борис Гаврилович, — ты никак не упомнишь ее имени-отчества, это моя жена. Будет время, зайди, пристыди ее великовозрастного сынка, отчего не пишет матери. Пожалуйста.
Нюрка не стала ничего обещать, но бумажку с адресом взяла.
Поезд быстро поехал дальше, гремя колесами, покачиваясь из стороны в сторону на стальной колее. В вагоне были веселые, общительные попутчики, они рассказывали истории из своей жизни, ели крутые яйца, читали книжки, пили чай и любовались Нюркиной черепахой, которая ползала по деревянной полке, изучая свое новое жизненное пространство.
Нюрке было приятно и уютно ехать в такой обстановке, но долго так ехать ей не пришлось, потому что вечером поезд подошел к пересадочной станции и надо было выходить. В справочном бюро она выяснила, что пересадку ей предстоит ждать длительное время — около восемнадцати часов.
Накрапывал дождь. У вокзала стоял набитый людьми автобус. Нюрка втиснулась в него и поехала по ночному городу Косино искать непочтительного сына жены Бориса Гавриловича.
Автобус ехал долго, опустел, и в Загородный поселок Нюрка приехала совсем одна, так что ей не у кого было даже спросить дорогу по нужному адресу.
Лил дождь, и пока она нашла в темноте дом 27, то вымокла и замерзла от ветра.
Дверь небольшого финского домика ей открыл не молодой, но и не старый человек странного и необычного вида. Чем он был странен, Нюрка не смогла бы сказать, потому что уже в следующее мгновение убедилась, что никакой странности нет в нем, что ее мимолетное впечатление лишь игра усталого воображения. И все же, когда он открыл дверь, она отчетливо ощутила какую-то своеобычность в его облике и его движениях. Это ощущение было как дуновение ветра (пришло и ушло), как летучий запах, промелькнувший в ближнем воздухе, — ветер исчез, и запах исчез, но память о них осталась. Так и неясное ощущение необычности человека, открывшего ей дверь, мгновенно исчезло, но память об этом ощущении осталась.
Нюрка стояла перед ним на мокрой земле, отворачивая лицо от света, падающего через раскрытую дверь.
— Здрасте, — сказала она вежливым голосом и посмотрела в бумажку, данную ей Борисом Гавриловичем. — Мне нужен Михаил Антонович.
— Это я.
— Господи, я думала, вы молодой, а вы... — удивленно воскликнула Нюрка.
— Да, к сожалению, я уже немолодой, — сказал он.
— Тогда с вашей стороны совсем нехорошо, почему вы не пишите матери?
— Я всегда был плохим сыном, — сказал он.
— И ничего в этом нет хорошего, — сказала она.
— Я исправлюсь, — пообещал он. — Обязательно. Но все-таки вы кто?
— Никто. Проезжая. С поезда на поезд... Я думала, вы маленький ребеночек и вас надо воспитывать, а вы…
— А я? — спросил он.
Она стояла посреди двора, дрожала от холода и дождя. Ей уже нечего было тут делать, она исполнила свою миссию и поэтому, пожав плечами, сказала:
— А ну вас. До свиданья. Пишите матери.
— Подождите. У вас когда поезд?
— Утром. В десять.
— Вот и прекрасно. Я сейчас ухожу в ночную смену, дом остается пустой. Вы могли бы посторожить его, ну, до восьми утра?
Нюрка поколебалась, ответила:
— Ладно. Посторожу. Спасибо.
В доме было сыро, неуютно, словно дом этот предназначался не для жилья, но для хранения никому не нужных вещей, а человек будто бы только приютился тут, как посторонний. Так они и жили, человек и вещи отдельно друг от друга, в уединении и запустении, не наблюдая друг за другом и не служа друг другу.
— Тут и сторожить нечего, — сказала Нюрка.
— Все же казенное добро, — сказал он, — надо беречь, загородная резиденция для заводских командировочных... Был сосед, утром уехал... Так что располагайтесь спокойно, никто не потревожит... До свиданья.
— До свиданья, — сказала она. — Не забудьте, напишите Вере Александровне.
— У моей матери есть свойство — обременять посторонних людей ненужными просьбами.
— Я не такая уж посторонняя, я знакомая Бориса Гавриловича...
— Дочь?
— У него нет детей… я просто знакомая, бывшая соседка по квартире.
— Ах вот как! — сказал он и стал надевать плащ.
Нюрка вдруг поняла, почему он показался ей странным в то первое мгновение, когда открыл дверь: он говорил с нею, но словно не видел ее, будто существовал в другом, своем мире, откуда и вел рассеянный разговор, занятый собственными мыслями и переживаниями.
— Ты далеко едешь? — спросил он.
— На Кавказ, — сказала она. — Я взяла отпуск отвезти черепаху…
— Кого? — он удивился.
— Черепаху... — Она вынула из хозяйственной сумки сонную охолодавшую черепаху и положила ее на пол.
— А зачем? — спросил он.
— Просто так, — сказала она. — Я отвезу ее и оставлю в горах, пусть живет на родной земле.
Он посмотрел на Нюрку с интересом, словно вышел на мгновение из своего сосредоточенного мира, сказал:
— Страшный зверь...
— Нет, что вы, — воскликнула Нюрка, — она даже красива. С нашей точки зрения в ней, может, и мало красоты, но для себя она красива. Смотрите, панцирь, ножки, голова — все приспособлено для горной жизни. Раз полезно, — значит, красиво. Правда?
Он не ответил. Спросил:
— Тебя как зовут?
— Нюра.
— Ключ, Нюра, оставишь в двери, — сказал он и ушел.
Он ушел, а она села на диван и ощутила вдруг внутреннюю печаль от нежилой пустоты казенного этого дома. Ей отчего-то стало жалко и себя, уехавшую зачем-то от привычной обстановки своей комнаты, и Михаила Антоновича, живущего тут, как на холодном вокзале, и незнакомую ей Веру Александровну, которая ждет письма от пожилого своего сына, как от малого ребеночка. И уж совсем глупо, ей ни с того ни с сего захотелось плакать, но она закусила губы, сказала себе: «Еще чего, перестань, дура», — и отогнала ненужные, беспричинные слезы.
Она разделась, развесила сырую одежду сушиться и легла на костлявый диван, прикрывшись пальто Михаила Антоновича.
Она лежала, смотрела на потолок, где в желтом круге света, отбрасываемом электрической лампочкой, ползала черная муха. От пальто пахло резким чужим запахом. За окном сверкнула белая молния, ударил гром, и по окну захлестал злой новый дождь. Возле ножки дивана недвижно спала черепаха. «Ах господи, — подумала Нюрка, — а ведь во всем виновата ты, черепаха черепаховна. Не было бы тебя, я бы храпела дома на печи».
Она подумала так, засмеялась оттого, что так смешно подумала, ибо дома у нее не было никакой печи, закрыла глаза и незаметно уснула.