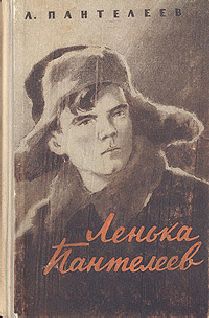Л. Пантелеев - Том 1. Ленька Пантелеев
Жить в колонии было и скучно, и грязно, и голодно. Город только недавно был освобожден от колчаковцев, жизнь еще не наладилась. Ленька дождался первых холодов, получил казенное ситцевое пальто и ушастую шапку — и дал тягу.
До заморозков он жил в полуразрушенном здании пивоваренного завода на берегу реки Мензелы. Пробовал воровать. На базаре из-под самого носа татарина он стащил хорошие чесаные валенки. Тут же на базаре хотел их продать. Попался. Рассвирепевший татарин избил его этими же самыми валенками. А валенки были тяжелые — с обсоюзкой.
…Однажды он, голодный, бродил по городу и вдруг увидел на заборе плакат:
«КТО НЕ РАБОТАЕТ — ТОТ НЕ ЕСТ»
Таких плакатов Ленька видел и раньше немало, но почему-то на этот раз он очень внимательно перечитал его и задумался.
В тот же день он зашел в городской финансовый отдел — в первое учреждение, которое попалось ему на глаза, и спросил, нет ли для него подходящего места.
— А что ты умеешь делать? — спросили у него.
— Да что угодно.
— Финансовую работу знаешь?
— Это считать-то, — презрительно усмехнулся Ленька. — Эка невидаль!..
Но на финансовую работу его все-таки не взяли. Ему предложили работать курьером. Работа была в самый раз. Город был маленький, учреждений немного, ходить некуда. Два дня Ленька просидел в теплой финотделской приемной, почитывая книжку и попивая морковный казенный чаек. На третий день, под вечер, его позвали к секретарю.
— Отнесите этот пакет в коммунхоз, — приказал ему секретарь, вручая запечатанный конверт и толстую рассыльную книгу.
Ленька с готовностью побежал исполнить поручение.
Но добежать до коммунхоза ему не удалось.
Финотдел помещался во втором этаже. Выбежав на площадку и увидев перед собой широкую городскую лестницу с гладкими отполированными перилами, Ленька не удержался, сел на перила и — как бывало когда-то в реальном училище — покатился вниз. Но в реальном училище он скатывался большей частью благополучно. А тут ему не повезло. Зацепившись штаниной за какой-то неудачно высунувшийся гвоздь, он перекувырнулся через перила и с высоты второго этажа полетел вниз.
…Очнулся он на больничной койке. Ему посчастливилось. Он мог сломать и спину, и руку, и ногу, и что хотите. А сломал всего-навсего один большой палец на левой руке.
Из больницы он выписался в середине зимы. Пошел в финотдел. Место его было уже занято. Какая-то древняя старушка сидела в приемной, вязала чулок и попивала морковный чай.
Леньке выдали выходное пособие. Неделю он жил барином на своем пивоваренном заводе.
Потом наступили морозы, по ночам Ленька совершенно коченел.
Он уже подумывал, не вернуться ли ему в детдом. Правда, это не очень весело — возвращаться к разбитому корыту, но что ж поделаешь.
В тот день, когда в голову ему пришла эта мысль, он встретил на улице молодого веселого парня, подпоясанного солдатским кушаком, за которым торчал широкий австрийский тесак.
Ленька поднимался наверх, в город. Парень бежал вниз. Он пробежал мимо и вдруг остановился. Наверно, у Леньки был очень страшный, заморенный и измученный вид.
— Эй, малай! — окликнул его парень.
Ленька остановился.
— Ты чей? — сказал парень.
Ленька попробовал усмехнуться и сказал, что он «свой собственный». И пошел дальше. Парень догнал его и схватил за плечо.
— Послушай, — сказал он, — ты что — замерз?
Сказал он это так хорошо, заботливо и тепло, что Ленька вдруг почувствовал, что он и в самом деле промерз до последней косточки. Зубы у него застучали. Если бы парень не подхватил его под руку, он, наверно, сел бы тут же, посреди улицы, в снег.
— А ну, пойдем поскорей греться, — сказал парень и, схватив Леньку за руку, потащил его наверх, в город.
…Он привел его к дому, над подъездом которого висела вывеска:
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ
РКСМ
В маленькой комнате, украшенной лозунгами и плакатами, сидела за столом рыжеволосая веснушчатая девушка. Девушка что-то писала.
— Принимай гостя, Маруся, — сказал ей парень.
Увидев Леньку, девушка вскрикнула. Уши и нос у Леньки были совершенно белые. Он отморозил их.
Он никогда не забудет эти добрые женские руки, которые полчаса подряд заботливо растирали снегом его лицо и уши.
— Ну что — дышать можешь? — спросили у него, когда он немного согрелся и пришел в себя.
— Да. Благодагю вас. Могу, — сказал Ленька и вдруг расплакался. Плакать ему было стыдно, он давно не плакал, но сдержать себя он не мог.
Его успокоили, напоили чаем, накормили хлебом.
Он рассказал, кто он, откуда и что с ним случилось. Рассказал и про ферму, и про монастырский бархат, и про валенки, и про чека, и про колонию имени III Интернационала…
Он думал, что сейчас его выгонят или отправят в милицию. Но парень, которого девушка называла Юркой, серьезно выслушал его и сказал:
— Вот что, товарищ Ленька… До Петрограда ты вряд ли сейчас доберешься. Оставайся у нас — в комсомоле.
Ленька остался. Его поселили на кухне, которая только называлась кухней, потому что там стояли плита и кухонный стол. А на самом деле там только чай кипятили, когда собирались по вечерам в комитете комсомольцы — на лекции, на собрания или просто поговорить, пошуметь и поспорить.
Эта зима была у Леньки очень хорошая.
Он жил в комитете вроде сторожа, получал зарплату и паек, но чувствовал себя равноправным членом коллектива. Ходил на собрания. Слушал доклады. И если на собрании обсуждалась резолюция и нужно было голосовать, он тоже поднимал руку. Сначала он делал это робко, а потом осмелел и стал поднимать руку чуть ли не выше всех. И никто не удивлялся и не возражал. Его считали таким же комсомольцем, как и других, хотя по возрасту Ленька в комсомол не годился, — ему не было еще и тринадцати лет.
…Городская организация комсомола была совсем маленькая. Все это была зеленая молодежь, главным образом — ученики и ученицы Единой трудовой школы. Юрка среди них выглядел чуть ли не старичком: ему исполнилось 18 лет. Он уже второй год работал помощником механика на городской электростанции и занимался; кроме того, на инструкторских курсах всеобуча. Работать ему приходилось много. Отец его погиб еще в германскую войну, и на Юркиных плечах лежали заботы о семье, о больной матери и о маленьких братьях и сестрах, живших в Казани. Он сам признавался Леньке, что спит не больше четырех часов в сутки. И все-таки он находил время позаботиться и о своем воспитаннике.
Прежде всего он решил, что мальчику нужно учиться. Оба они долго и со всех сторон обсуждали вопрос, — куда ему лучше идти: в бывшую гимназию или в бывшее реальное? Хотя ни реального, ни гимназии давно уже и в помине не было, в Леньке еще не угасла застарелая ненависть к «серошинельникам», и он решительно заявил, что в гимназию, даже в бывшую, учиться не пойдет. Юрка сначала рассердился на него, потом посмеялся, а потом подумал и решил:
— А и верно, пожалуй… К черту все эти гимназии. Нам, Леничка, в первую очередь нужен рабочий класс. После войны, когда разобьем колчаков и Юденичей, будем восстанавливать заводы, будем новые строить… Определим-ка мы тебя, давай, в профессиональную школу! Хочешь?
— Это в какую? — не понял Ленька. — В сельскохозяйственную?
— Почему в сельскохозяйственную? В обыкновенную профшколу. Будешь учиться на механика или на машиниста.
— В сельскохозяйственную я не хочу, — сказал, помрачнев, Ленька.
Учиться же на машиниста ему показалось заманчивым. Засыпая в этот вечер, он даже помечтал немного: вот он кончает школу, ему дают настоящий паровоз, он садится на него, заводит и едет… Куда? Да конечно же, туда, куда и ночью и днем, и во сне и наяву рвалась его маленькая душа: в милый, родной Петроград, на берега Невы и Фонтанки!..
…Но машинист из Леньки не получился.
В профшколу он пришел в середине зимы, в начале февраля. Его спросили: где он учился? Он сказал, что учился во Втором петроградском реальном училище. Вероятно, это звучало очень солидно, потому что ему не стали устраивать экзамена, дали только написать небольшую диктовку из «Сна Обломова», и когда он написал ее, сделав всего одну ошибку, в слове «импровизирует» (написал «эмпровизирует»), его зачислили сразу в третий класс.
Ленька вернулся домой радостный и гордый. Он весь сиял. Порадовались вместе с ним и Юрка, и Маруся, и другие товарищи его по комсомолу.
Но уже на следующий день, явившись на занятия в профшколу, Ленька понял, что радость его была преждевременной и что гордиться ему пока что нечем.
Начались мучения, о которых он и не подозревал, поступая в профшколу.
Он полтора года не брал в руки учебника, забыл дроби, с грехом пополам помнил таблицу умножения, а в классе, куда он попал, проходили уже алгебру и геометрию.