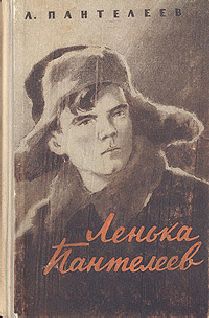Л. Пантелеев - Том 1. Ленька Пантелеев
Сложив письмо и спрятав его за пазухой грязной рубахи, он на цыпочках вышел на крыльцо. И не успел прикрыть за собой дверь, как увидел в синеющих утренних потемках слишком знакомую ему, страшную фигуру директора. Дракон стоял в десяти шагах от крыльца, курил, кашлял и сплевывал.
Дверь скрипнула. Ленька похолодел. Дракон оглянулся и посмотрел в его сторону.
— Ты что делаешь, шваль? — крикнул он. — Что у вас там уборной нет? Сколько раз говорил! А ну, брысь!
Ленька пискнул что-то и юркнул за дверь. Дракон его не узнал. Но Ленька опять весь дрожал от страха.
— Шваль, шваль, — шептали почему-то его губы. — Шваль, шваль, шваль…
Долго он стоял за полуоткрытой дверью, слушая, как стучит сердце, и не решаясь выглянуть за дверь. Наконец решился, выглянул и увидел, что директора во дворе нет. Тогда он осторожно, затаив дыхание, спустился с крыльца, огляделся и побежал.
Бежал он, пока хватило сил. На рассвете, когда уже занималась на востоке утренняя заря, измученный и голодный, он свалился под придорожным кустом и заснул. Во сне ему привиделось, будто он бежит по какой-то широкой, устланной красной ковровой дорожкой лестнице, а за ним, перескакивая через две ступеньки на третью, гонится бородатый Дракон. Ленька в ужасе мечется, кидается в первую попавшуюся дверь, но тут его настигают, хватают за шиворот, и хрипловатый злобный голос кричит:
— Ты где взял борова, уличная шваль?!
У Леньки застучали зубы. Он очнулся, обливаясь холодным потом.
«Господи… что это? — подумал он. — Ведь это уже было со мной когда-то! Неужели и в самом деле это он?»
На секунду мелькнула у него мысль: пойти обратно, проверить, убедиться. Но страх был сильнее любопытства. Он пошел домой — к тетке.
…Минуло почти два месяца с тех пор, как он покинул город. Он шел, и в душе его теплилась маленькая надежда, что он застанет дома мать.
В город он пришел рано утром, с трудом разыскал Белебеевскую улицу, которую за это время успели переименовать в улицу Бакунина. Утро было жаркое, все окна в квартире были распахнуты. Он заглянул в комнату, где жил до отъезда матери, и отпрянул. У окна сидел в качалке незнакомый плешивый человек в очках и читал газету. В соседней комнате Ленька увидел тетку. Она стояла у комода перед зеркалом и, откинув чуть ли не на спину голову, вытаращив по-совиному левый глаз, обеими руками оттягивала на лоб веко. Лицо у нее было трагическое, похоже было, что на глазу у тетки вскочил ячмень.
Ленька окликнул ее.
Тетка испуганно оглянулась.
— Боже мой! Леша! Как ты меня напугал. Ты откуда взялся?
— Пгишел, — невесело усмехнулся Ленька, подтягиваясь повыше и заглядывая в комнату, в надежде увидеть какие-нибудь следы присутствия матери. Не обнаружив ни пальто ее, ни платья, ни даже носового платка, он упавшим голосом сказал: — Мамы нет?
— Ты видишь, что нет!
Тетка все еще поглядывала в зеркало, подпирая мизинцем левую бровь.
— И писем не было?
— Боже мой, что за глупости ты говоришь! В Петрограде белые, а он толкует о каких-то письмах!.. Кстати, ты зачем, собственно, пришел? В гости? Или по делам?
— Почему белые? — сказал Ленька. — Кто вам сказал, что в Петрограде белые?
— Не все ли равно, кто сказал… В газетах еще на прошлой неделе писали, что Юденич взял Царское Село. А от Царского до Петрограда сорок минут езды…
Ленька усмехнулся. Почему-то ему вспомнилась Нонна Иеронимовна Тиросидонская и ее знаменитое «мало ли что говорят».
— Что же ты стоишь, как нищий, под окошком? — сказала тетка. — Заходи. У нас еще пока, слава богу, имеются двери и крыша над головой.
Пройдя через двери и очутившись под крышей, Ленька еще раз услышал тот же неделикатный вопрос: зачем и надолго ли он пришел в город?
— Я в общем совсем, — пробормотал он, выдавливая из себя улыбку.
Тетка оставила в покое свой глаз и отвернулась от зеркала.
— Как совсем? Я не понимаю. Что ты хочешь сказать?
Ленька молчал.
— Тебя выгнали?
— Где Ляля? — спросил, оглядываясь, Ленька.
Тетка быстро ходила по комнате, прижимала к распухшему и покрасневшему глазу комочек платка и трагическим голосом говорила:
— Нет, в самом деле, я спрашиваю тебя: ты на что, собственно, рассчитывал? Я прошу тебя ответить: на что ты рассчитывал? Боже мой, боже мой, что еще за новое наказание свалилось на мою голову! Ты хоть немножко думал о том, что ты делаешь? Ты же не маленький, тебе не пять лет, ты должен понимать, что я не миллионерша. Мы и так еле-еле сводим концы с концами. Цены растут, жить становится буквально невозможно, масло стоит уже триста рублей фунт, говядины не достать ни за какие деньги, белый хлеб исчез, чтобы сварить чечевичную кашу, требуется…
Ленька не ел со вчерашнего дня. От голода его мутило, он слушал невнимательно и плохо понимал, что говорит тетка, но слова «масло», «говядина», «чечевичная каша», «белый хлеб» он слышал отчетливо, они терзали его слух, наполняли слюной рот, дразнили и без того бешеный аппетит.
— Ты понял меня? — спросила тетка, заканчивая свою речь.
Ленька помолчал, качнулся на стуле и невпопад сказал:
— Я есть хочу.
Тетка накормила его. Но тут же, убирая со стола, она со всей твердостью заявила, что это последний раз, что рассчитывать на ее помощь он не может. Он не маленький, ему не пять лет, он должен понимать, что она не миллиардерша, что жить становится буквально невозможно, что цены растут…
Ей действительно было трудно. Она хворала, нигде не работала, жила на заработок и на паек дочери.
Ира, которой недавно исполнилось шестнадцать лет, служила уборщицей в военкомате. Ляля уже второй месяц жила в детском доме. В этот же детский дом, по настоянию тетки, устроился и Ленька. Но пробыл он там очень недолго. Он даже не помнит, сколько именно: может быть, месяц, а может быть, и меньше…
…Было что-то унылое, сиротско-приютское в этом заведении, где какие-то старозаветные писклявые и вертлявые дамочки воспитывали по какой-то особой, сверхсовременной, вероятно, им самим не понятной, системе стриженных под машинку мальчиков и девочек, среди которых были и совсем маленькие, меньше Ляли, и почти взрослые, на много лет старше Леньки.
Кто были эти воспитательницы, откуда они слетелись сюда и какой педагогической системы держались, — над этим, конечно, Ленька в то время не задумывался. Скорее всего это были так называемые «левые» педагоги. Пользуясь тем, что Советская власть, открывая тысячи новых школ и интернатов, нуждалась в педагогических силах, эти дамочки налетели, как саранча, и на школу, и на детские сады, и на детские дома и всюду насаждали свою необыкновенную, «левую» систему.
А система эта была действительно странная.
Почему-то ребят заставляли обращаться к воспитателям «на ты» и в то же время не давали им слова сказать, так что не было, пожалуй, и случая, чтобы сказать воспитательнице «ты». Гулять водили парами, за столом, пока не была роздана еда, мальчики и девочки сидели, как преступники, с руками, сложенными за спиной. Все время их куда-то гоняли, что-то разъясняли, чему-то учили и наставляли.
Ленька помнит, как за обедом, когда ребята с жадностью глотали жиденький постный суп под названием «кари глазки», в столовой появилась высокая, стриженная по-мужски дама в пенсне. Походив по столовой и сделав кому-то замечание, что он «чавкает, как свинья», дама остановилась во главе стола и начала говорить. Говорила она очень долго, но из ее речи Леньке запомнилось только одно место.
— Дети, — говорила она. — Я хотела еще обратить ваше внимание на ваш язык. Он у вас очень грубый. Вы вот, например, все говорите…
И она, не поморщившись и не покраснев, сказала очень нехорошее слово.
— А надо говорить не так, а надо говорить…
И она произнесла еще более противное слово.
Все были голодны, но после этих слов никто не мог есть ни суп, ни кашу.
Бывали в детдоме и развлечения, но вряд ли они кого-нибудь развлекали. Даже воспоминание об этих вечерах вызывает у Леньки тоску и отвращение.
В комнате нехорошо пахнет уборной, табаком и немытой металлической посудой, голова чешется, в животе пусто, а на самодельной сцене, за раздвинутыми бязевыми простынями, выполняющими роль занавеса, ходят голодные бледные мальчики и девочки и разыгрывают глупую пьеску:
Доктор, доктор, помогите,
Наша куколка больна…
Потом выступает маленькая, стриженная, как солдат, девочка. Вытянув по швам руки, тоненьким деревянным голосом девочка читает:
Где гнутся над омутом лозы,
Где летнее солнце печет,
Летают и пляшут стрекозы,
Веселый ведут хоровод…
Было скучно, а время куда-то уходило, текло, как вода сквозь решето, так что даже читать было некогда. Неудивительно, что из детдома бежали. Чуть ли не каждое утро за завтраком не досчитывались одного, а то и двух-трех воспитанников. Подумывал и Ленька о побеге. Он уже давно лелеял мечту пробраться в Петроград и разыскать мать. Поверить, что ее нет в живых, он почему-то не мог.