Вадим Кожевников - Знакомьтесь - Балуев!
— Правильно, — подтвердил Балуев.
— Партия, как самое себя, народ знает. От этого у нее все и получается правильно.
— Ты что, решил со мной политработу провести? — улыбнулся Балуев.
— Ну что вы, Павел Гаврилович! — Зайцев смутился. — Это я просто для себя самого, вроде вслух думаю. Я ведь комсорг. — И прибавил доверительно: — У нас в библиотеке на Уэллса очередь. Ребята к библиотекарше подлизываются, даже духи дарят. Я его научную фантастику почти всю читал. Ничего особенного, отсталая техника. А вот его «Россия во мгле» мне понравилась. Как он с нами здорово просчитался! Хорошая книга, вдохновляющая!
С реки подул протяжный сырой ветер; влажный снег залеплял лицо, тут же таял и затекал за воротник.
Зайцев вжал голову в плечи, съежился.
— Пойду помну перемычку, погреюсь маленько.
Поднялся в кабину, включил фары. В стеклянных световых трубах густо роился снег. Бульдозер заскреб гусеницами, у края обрыва замер и квадратной тяжкой глыбой стал сползать в глинистое ущелье почти по отвесному откосу.
И снова в ущелье размытой траншеи, наполненной мраком, гибельно накреняясь, барахталась в засасывающем дряблом грунте машина.
Для бульдозериста это была самая тяжелая и невыгодная работа. Ну, сколько ему выпишет нормировщик? Самую малость. Ведь бульдозерист не перемещал кубометры грунта, а только месил их. И нет норм для такого труда, и ценника нет. Но бульдозерист работал сейчас по самым высоким нормам труда советского человека.
«Если перемычка не удержит воду, — думал Павел Гаврилович Балуев, стоя на краю обрыва траншеи, — дюкер снова завязнет в трясине, и плывун будет засасывать стальную трубу. И придется резать его на части, выволакивать из мякины грунта кусками и все начинать сначала!»
На землесосном снаряде, притулившиеся к берегу, мерно гудели центробежные насосы. Кольчатое горло шланга тянулось по земле. Оно ниспадало с перемычки, и из его зева в траншею жирно хлюпала вода.
Но дюкер по–прежнему лежал на грунте мертвой тяжестью. Только там, где не выступали плывуны, бочки понтонов приподняли его ствол, изгибающийся, словно живое тело.
Балуев старался сейчас сосредоточить все свои мысли на дюкере. Этап за этапом, с учетом всего того, что случилось сегодня, он пытался представить те неожиданности, которые будут грозить завтра, при новом протаскивании трубы. Лицо Зайцева в синих пятнах озноба, озабоченное, с немеркнущим сиянием мечты в глазах, стояло перед ним. И Балуеву казалось, что он сейчас не так одинок, каким чувствовал себя, когда бродил по истерзанной тракторными гусеницами рабочей площадке.
И он думал, как всегда старался думать в тяжелые мгновения своей жизни, и уговаривал себя, обращаясь только к себе: «Когда человек остается один, он не должен испытывать отчаяния полного одиночества. Что значит один? Это я такой, какой сейчас есть, и такой, каким должен быть. И всегда, всю жизнь эти двое существуют во мне. И когда второй, каким должен быть я, побеждает, я становлюсь лучше, чем был… Нужно и теперь перебороть себя самим же собой; таким я хочу быть, каким и должен быть человек и каким я тоже иногда умею быть».
Балуев не мог точно вспомнить, когда он пришел к подобным раздумьям.
Может, похожие мысли появились у него сразу после того, как однажды на фронте он понял, что сегодня его не убили, и завтра, возможно, тоже не убьют, и он останется жить, хотя и не ощущал себя, а только мучительно осязал нестерпимо оранжевое пламя разрыва, удар такой силы, от которого его словно расплющило и тело стало одной сплошной болью.
Боль могла убить, но она же и спасла Балуева. Спасла, потому что его, ползущего, стонущего, успел приметить и втащить в окоп кто–то из бойцов, и почти тотчас же над его головой, скрежеща, прополз гибкий, суставчатый потолок из натертых до блеска гусениц танка.
В ненависти на заполнившую все его существо боль Балуев оттолкнул кого–то, выполз из окопа и, лежа на боку, опираясь на локоть, бросил вслед танку гранату. Блеск взрыва безболезнен, но взрывная волна толкнула его, и в это–то краткое мгновение огненной вспышки гранаты Балуев успел подумать, что сейчас он лучше, чем был, когда полз и визжал от боли. И тут он снова с облегчением утратил себя и очнулся только от тошнотного, мерного покачивания носилок,
И вот, наверное, тогда–то он ясно понял, что его не убьют ни сегодня, ни завтра, что он живой. Осторожно, словно прислушиваясь к боли, которая не была теперь такой нестерпимой и, словно устав, отдыхала, но, отдохнув, снова могла стать чудовищно сильной, он думал: «Человек никогда не бывает один. В нем всегда противоборствуют двое: один — лучше, другой — хуже, и тот, который лучше, никогда не бывает одинок, он в тебе как бы представитель всех людей, которых ты знал и любил, и этот, второй, лучший, повелевает тобой».
А может быть, Балуев стал думать об этом в самом начале боя, когда «юнкерсы» волна за волной роняли бомбы, и от разрывов вздрагивали глиняные стены окопа, на дне которого он сидел, и каждая бомба, казалось, падала на колени, меж которыми он судорожно сжимал автомат. Да, конечно, он начал думать так именно тогда, но с отчетливой ясностью мысль эта пришла потом. Она не успела прийти сразу, потому что боец Егоров вдруг крикнул:
— Ух, мать честная! — и лег на Балуева грузным телом, и тяжкий удар бомбы будто выгнул дно окопа. Когда же все это прошло, Егоров продолжал лежать на нем и становился с каждым мгновением тяжелее и тяжелее. Балуев с трудом вылез из–под Егорова, и тот твердо стукнулся о дно окопа лицом, и Балуев увидел спину Егорова, будто иссеченную топором: осколки так туго и глубоко вошли в тело Егорова, что крови почти не было.
Первое, что Балуев почувствовал, — это счастье. Остался жив! А Егоров? Могло быть и наоборот. И его охватила блаженная слабость. Потом Балуев вылез из окопа, от горячих дуновений разрывов несколько раз падал, вставал и не торопясь шел молча, но слышал свой сиплый, страшный голос, призывающий солдат в атаку.
Он неторопливо шел по колеблющейся, извергающей осколки земле и молил невесть кого, чтобы его не убило до тех пор, пока он не рассчитается за Егорова сам…
Увидев, что бегущие бойцы опережают его, он сердито побежал, злясь на то, что другие могут оказаться впереди, и не он, а другие рассчитаются за Егорова.
А кто ему был Егоров? Никто! Боец, который потеснился в своем окопчике и с лукавой скаредностью выкурил все офицерские папиросы Балуева. И совестясь, что курит чужие, рассказывал о себе с насмешливой, веселой откровенностью: воюет он с умом, осторожно, потому что троих ребят без отца оставлять не имеет права. И никаким орденом его не сманить на лишнее геройство, — вот и окоп вырыл поглубже, чем другие… Говорил он о себе, усмехаясь, будто призывая посмеяться и других.
За табачок, что ли, решил Егоров развлечь офицера или понял, отчего у офицера так окаменело покрытое мелким холодным потом лицо?
Этот Егоров и прикрыл собой Балуева, придавил его ко дну окопа своим большим, сильным телом рабочего.
Нет Егорова. Но осталось что–то в сердце и повелительно командует в те мгновения, когда наступает душевная усталость, когда становится очень трудно и тянет словчить, отойти в сторонку, вывернуться и переложить на другого то, что должен тащить сам.
Павел Гаврилович пытался сосредоточить сейчас все свои мысли на дюкере. Не хотелось думать о себе — какой он несчастный и какими неприятностями ему грозит вся эта история. Но даже когда он думал об этих неприятностях, он не мог вызвать у себя ощущение страданий, боли. Не получалось. Не получалось даже тогда, когда нарочно старался возбудить в душе эти горестные чувства. А вот думать о Викторе Зайцеве и о многих других рабочих ему сейчас хотелось больше, чем размышлять о способах, какими можно было бы поднять дюкер на плав.
Как человек во мраке инстинктивно движется к светлой точке, так, блуждая мыслями, Балуев невольно устремлялся в поисках душевного успокоения к человеку же…
Одиноко стоя у края траншеи, где на дне ее утюжил рыхлую перемычку бульдозер, Балуев увидел тоненькую фигурку девушки, сползающую вниз с откоса с узелком в руке, и услышал голос Изольды:
— Витя, ты что, заболеть хочешь, весь день не ел, заставляешь других за тебя переживать!
Бульдозер смолк, и в тишине отчетливо раздался голос Зайцева:
— А я тебя, Зорька, не просил подавальщицей быть. У меня еще с полкило любительской осталось недожеванной.
— Смотри, ты же весь потный, прохватит на ветру, полезай в кабину! — приказывала Изольда.
— А ты? Тебя не прохватывает? Садись тоже в кабину!
Хлопнула дверца. Погасли фары. Значит, Зайцев берег аккумуляторы. Всю ночь ему придется работать с прожекторами.
По–прежнему с мокрым чавканьем плюхались в лужи сырые, тяжелые хлопья снега. Снег падал на кепку, на плечи Балуева. От сырости ломило мозолистый шов на груди — след осколочного ранения.
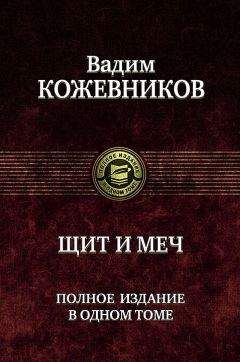
![Вадим Кожевников - Разведчики [антология]](/uploads/posts/books/24346/24346.jpg)

