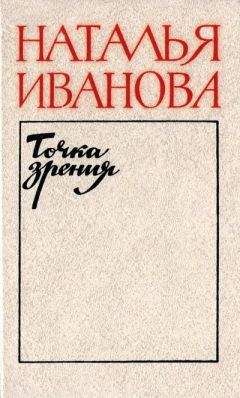СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН - После бури. Книга вторая
— Вот это да,— вздохнул сокрушенно Кунафин.— Вот это да!
Сеня Суриков сидел, откинувшись на спинку стула, долго молчал, потом сказал глухо:
— Вам, Петр Николаевич, все-таки не удастся нас запутать. Как ни старайтесь, не удастся. Кунафин,— обернулся он затем в сторону,— Кунафин, я вношу предложение: ты, как председатель, поручаешь кому-то из членов комиссии, мне или товарищу Корнилову, подработать проект решения нашей комиссии, а на следующем заседании мы этот проект проголосуем, рассмотрим и утвердим. Я другого выхода не вижу.
— И я не вижу,— согласился Кунафин.— Я тебе поручаю составить проект, товарищ Суриков.
— Вот что, товарищи,— сказал Корнилов,— Георгий Васильевич просил через меня, чтобы его пригласили в конце нашего сегодняшнего заседания. Он хочет сделать заявление.
— Какое? — спросил Суриков.— Какое заявление? Опять какая-нибудь путаница?
Но Корнилов уже шел к дверям.
Бондарин сидел в соседней комнате, секция торгово-промышленная, за столом, заваленным бумагами и папками, все другие столы были пусты, время было уже нерабочее, и, когда вошел Корнилов, спросил:
— Как дела?
Корнилов в ответ махнул рукой.
— А вы успокойтесь, успокойтесь,— тоном старшего сказал Бондарин, и они пошли.
Бондарин, стоя, сказал, что он не считает для себя возможным продолжать работу в Крайплане. Что сама постановка этого вопроса, и создание специальной комиссии, и первое же ее заседание, на котором он имел честь присутствовать, отвергают такую возможность.
Потом Бондарин поклонился и ушел снова, а Корнилов с каким-то даже внутренним облегчением произнес:
— Вот так... Вот и наша комиссия не нужна больше, товарищ Кунафин.
— Что-о? — воскликнул Сеня.— Нет, это вопрос не частный и решение Бондарина ничего не значит. Подумаешь, он, генерал, решил! Да мы что, просили его об этом? Сроду не просили! И никогда не попросим! Мы сами решим общественно важный и политический вопрос, сами, без всяких заявлений с его стороны.
— Семен Андреевич! Товарищ Кунафин! С моей стороны тоже следует заявление: я считаю, что после того, как Бондарин сообщил нам о своем решении, продолжать работу нашей комиссии не имеет смысла. Поэтому я лично ни на одном заседании, если они все-таки состоятся, присутствовать не буду.
Сеня Суриков сказал, как будто и не слышал Корнилова:
— Назначай заседание, Кунафин! Утвердим резолюцию большинством голосов, а на том уже действительно кончим.
— Назначаю на послезавтра, на пять вечера, в этой же комнате. Все слышали? — спросил Кунафин.
Спустя несколько дней, поднимаясь по лестнице а свою квартиру, Корнилов услышал, как хлопнула дверь, кто-то спускался по лестнице ему навстречу, и нос к носу он встретился с товарищем Суриковым.
Корнилов остановился, вытаращил глаза на Сеню, тот медленно ступал со ступени на ступень, лицо было у него скорбным.
Лицо Сени неизменно выражало готовность к действию, если же кто-то вступал с ним в разговор, у Сени тотчас возникал позыв этот разговор прервать и бежать куда-нибудь, по какому-нибудь делу, но он все равно оставался на месте и продолжал разговаривать, тем самым как бы оказывая собеседнику пусть и не очень значительное, а все-таки одолжение.
Но тут было скорбное лицо, неподвижно скорбное, и ничего больше.
Корнилов поздоровался, Сеня сказал в сторону:
— Да-а-а. Да-да. Конечно.
Нина Всеволодовна загадки не открыла:
— Был... Дела... У товарища Сурикова, ты знаешь, везде дела...
Корнилов не настаивал, он ждал, что Нина Всеволодовна сама расскажет, чего ради к ней приходил Сеня.
Она подала знак своего расположения — погладила его по голове... Благодарность: он ни о чем ее не спрашивает.
Еще через день она сказала:
— Подожди... Я подумаю, соберусь с мыслями, с чувствами, с воспоминаниями.— И опять погладила нежно.
— Ты что-то вспоминаешь? спрашивал он.
— Так много, то и не знаю что...
— Ты молчалива.
— Сегодня ты уйди от меня пораньше. Хорошо? Сегодня мне хочется быть одной...
Но ведь и так было, как было до сих пор — он прикасался губами к мизинцу на ее ноге, она пугалась: она ужасалась:
— Зачем, зачем?! Разве можно?
— Но ведь это тоже ты!
Или же он объяснял ей, в который уже раз, что красивая сильная умная женщина — это высшее достижение природы, самый совершенный и удивительный организм, который она создала, а поэтому в мире есть два чуда: сама природа и высшее ее достижение.
— Ты об этом знаешь? — спрашивал он.
— Иногда догадываюсь...
— Женщине настоящей — обязательно нужно на час, на два, три быть погруженной в самое себя. Ощущать свою кожу, цвет своих волос, слышать свой голос, видеть себя в зеркале, все это, отрешившись от хлопот, от забот, ото всех мыслей, кроме разве очень неторопливой мысли о самой себе...— говорил Корнилов.
— Ты-то откуда это знаешь?
— Знаю, я же был натурфилософом.
— Но все окружающее, все окружающие нас люди, дела и хлопоты никогда не дают нам этих двух-трех часов. Часа не дают... Минуты не дают даже мне, нигде не работающей.
— А я? Я ведь это же твои и два, и три часа! И двенадцать часов. И вся наша жизнь. Теперь!
Значит? Значит, это было что-то временное в ней, что он должен спокойно и рассудительно переждать и пережить. Она, может быть, и с Лазаревым становилась иногда такой же? И Лазарев это умел пережить, с этим справиться?
Корнилов еще больше, еще усерднее стал работать в КИС.
Толк был таков: ты прикладываешь к работе усилия и от этого ее становится все больше и больше. Еще больше усилий — еще больше работы. И меньше времени для собственных чувств и сомнений в своей судьбе. Ведь труд сделал человека человеком, вот и утешайся этой судьбой.
Все оставалось на своих местах в квартире Нины Всеволодовны, все без перемен: фикус в кадушке с черной-черной землей, герань в горшочках на подоконнике, столик с несколькими забавными фигурками немецкого фарфора, голландская печь с черными чугунными дверцами — большой и маленькой, лист железа на полу с пятнышками, их оставили раскаленные угли, которые когда-то Нина Всеволодовна, может быть, и сам Лазарев, выгребая кочергой в совок, уронили на пол... Еще книжный шкаф с энциклопедиями на русском и других языках и шкаф поменьше — с классиками художественной литературы. Фотопортрет Лазарева в простенке над комодом старинной работы.
Лазаревская квартира была мила Корнилову. В скромности и аккуратности замечались некоторая обеспеченность и довольство, тем самым она напоминала самарский дом адвоката Корнилова, родной дом, с которым были связаны воспоминания не из мира сего, а из божественно чуткого детства. И петербургскую его квартиру лазаревская комната тоже слегка напоминала, и спасительность тоже была здесь, та самая, которую Корнилов пережил в крохотной комнатке на улице Локтевской, угол с Зайчанской площадью в городе Ауле.
Итак, никогда не было у Корнилова такого жилища, которое хоть чем-нибудь не отозвалось бы здесь, в квартире Лазаревых.
А память Константина Евгеньевича Лазарева, его фотопортрет над комодом ничуть Корнилова не беспокоил, разве только в добром смысле: Корнилов был убежден, что существует правота во всем том, что было между ним и Ниной Всеволодовной, и умный Лазарев эту правоту давно понял... И все предметы этой квартиры точно так же понимали все, на их глазах происходившее.
Но вот он вошел в ее комнату и сразу же почувствовал: «Кто-то здесь есть чужой... Посторонний... Появился! Кто-то или что-то».
Это был альбом с фотографиями, он лежал на комоде. «Возьми-ка меня в руки, Корнилов, возьми!» Он взял ...и почувствовал несвойственный небольшому предмету вес... Это потому, что не только листы альбома были заполнены фотокарточками, они грудились стопой под обложкой. Они тут же рассыпались и упали на пол.
А Корнилов услышал тишину, она предвещала что-то, что вот-вот произойдет.
Он собрал фотографии с пола и взглянул на Нину Всеволодовну. Она стояла по другую сторону обеденного стола и с выражением какого-то вопроса смотрела на него. Корнилов хотел положить альбом обратно, он ведь не спросил разрешения, взявши его с комода, она пожала плечами.
— Нет, отчего же, смотри, смотри! — И опустилась на стул. «Смотри альбом, а я буду смотреть на тебя...»
В беспорядочной стопке карточек он тотчас заметил те, которые и должен был заметить: военные, времен гражданской войны.
Нина Всеволодовна в красноармейской форме, в шинели и шлеме с огромной пятиконечной звездой, с высоким шишаком... Да-да, к ней это не шло, а она все равно была красива!..
Лазарев же повсюду был худ, худоба придавала ему жесткое, даже жестокое выражение, которого Корнилов в нем не подозревал.
Нина Всеволодовна, перегнувшись через стол, пояснила:
— Язва желудка... Он чуть не умер. Демобилизоваться не хотел, и врач давал ему заключение: «Годен к службе».