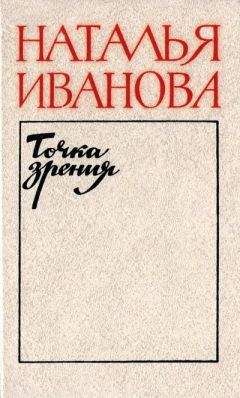СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН - После бури. Книга вторая
И хотя нет никакого удовольствия делать вывод и говорить его во всеуслышание, но вывод все равно напрашивается сам собой: не для того ли товарищ Вегменский Юрий Гаспарович еще в тысяча девятьсот двадцать пятом году критиковал Бондарина и делал к нему свои примечания, чтобы в тысяча девятьсот двадцать восьмом году сотрудничать с ним в Крайплане? Очень просто: некритикованный Бондарин куда годный? Никуда, каждый будет смотреть на него недоверчиво, но критикованный, да еще не кем-нибудь, а самим товарищем Вегменским Юрием Гаспаровичем, везде подойдет, хотя бы и в должность незаменимого спеца и члена президиума Крайплана! Такой даже может сидеть чуть не в любом президиуме, ну, конечно, кроме разве партийных съездов и конференций! И не пришло в голову нашему авторитетному товарищу Вегменскому, что он роняет во многих глазах не только себя, но и весь Крайплан и подает отрицательный пример другим советским учреждениям! И, таким образом, не кто, как сам Юрий Гаспарович Вегменский, довел дело, что должна была создаться наша нынешняя комиссия для разбора положения, которое он за все эти годы сам и единолично мог в любой момент изменить и пресечь! Вот какой невольный вывод, который я и ставлю на усмотрение нынешней комиссии.
Тут Кунафин, уже не сомневаясь в себе, снова посмотрел на Сеню Сурикова и действительно получил одобрение — Сеня склонил голову, улыбнулся и сказал:
— Все внимательно слушали сказанное? Да? Вегменский, словно ученик, поднял руку над головой, другой нажал на горловую свою кнопочку.
— Прошу слова для разъяснений. И для того, чтобы комиссия заранее и твердо определила круг вопросов, которыми она должна и компетентна заниматься.
Кунафин говорить Вегменскому не дал:
— Слово в первую очередь предоставляется членам комиссии.
Встал Бондарин и сказал:
— Считаю свое присутствие на данном заседании излишним. И затрудняющим дело обстоятельством. Разрешите уйти?
Кунафин снова посмотрел на Сеню Сурикова, потом сказал:
— Я, как председатель, категорически против.
— Вы каждую минуту можете понадобиться комиссии, Георгий Васильевич,— подтвердил Сеня Суриков.
— Я буду в соседней комнате. В случае необходимости пригласите меня.
Бондарин вышел. Воцарилась тишина, впрочем, недолгая — заговорил Сеня Суриков:
— Ушел и ушел. Нас это не трогает. И я продолжаю тот вывод, который высказал уже товарищ Кунафин. О котором действительно вопиет каждая страница этих «воспоминаний», этой антипролетарской книги. Этого вопля глухой не услышит, слепой не увидит, и нам, крайплановцам, должно быть стыдно, что мы сами этого не увидели, не услышали, а за нас это добрый дядя сделал, то есть спасибо им, тем товарищам, которые подали свой документ в редакцию, а редакция уже переслала его нам. Итак, я отмечаю: на первых же страницах товарищ Вегменский уже воскуривает Бондарину фимиам, дескать, Бондарин родился в тысяча восемьсот семьдесят пятом году, а потом поступил в Пензенское землемерное училище, в девятьсот третьем по первому разряду кончил академию Генерального штаба — это, видите ли, очень важно для Вегменского, что по первому, а в девятьсот четвертом году блестяще — опять же, видите ли, блестяще! — выиграл сражение на реке Шахэ у японцев, а в четырнадцатом году получил Георгиевский крест в германской войне, а потом дослужился до генерал-квартирмейстера северного фронта, а потом, что отречение Николая Второго совершилось на глазах Бондарина и он, видите ли, даже хранил акт об отречении. Так. А для чего мне, читателю, вся эта монархическая галиматья? Мне она не нужна! А вот Вегменскому нужна, он же готовил себе сотрудника, он как бы даже и самто не прочь погреться в лучах его монархической славы! Или вот он пишет, Вегменский, что Бондарин — не тот типичный генерал, он добился чинов и орденов не благодаря дворянскому происхождению и не благодаря Гришке Распутину, а собственным умом и старанием, поскольку он пролетарского происхождения, сын сельского кузнеца и даже работал молотобойцем. Еще он сообщает, что в дневнике генерал Бондарин написал о самом себе следующее: «Итак, для белого лагеря я теперь не только «социалистический генерал», но уже и оказался будто бы в Совдепии, кстати сказать, присудившей меня к трем годам тюрьмы и считающей меня одним из своих лютых врагов, особенно за создание восточного фронта». Бондарин написал это в своем дневнике, а в книгу даже и не перепечатывал, но Вегменский постарался эту запись туда впечатать! Догадался! И сделал это под номером сто восемьдесят первым своих примечаний. Для чего? Тут всякое может быть...
Вегменский вскочил и, забыв нажать горловую свою кнопочку, взмахнул руками, закричал что-то... волосы у него были растрепаны, глаза помутнели. Сеня Суриков сказал:
— Вообще-то мы вашего партийного лица не касаемся, на это имеются другие организации!
Вегменский, размахивая руками, выбежал из комнаты, и опять наступила тишина, и Сеня Суриков сказал с меланхолическим оттенком:
— Тот ушел... Этот ушел... Скажи, пожалуйста, совершенно одинаково действуют... Ну, да нам всем уже и недолго осталось на сегодня заседать.— И тут же Сеня привел из «примечаний» текст соглашения от 30 апреля 1920 года между японским командованием и командующим русскими войсками Бондариным о прекращении военных действий на Дальнем Востоке, а потом почему-то сказал: — Вегменский напирает, что генерал Бондарин с Красной Армией почти не воевал, немного где-то под Самарой, а потом он все искал, все искал невоенного и, видите ли, бескровного решения... Он как будто даже забыл собственноручную запись Бондарина о том, что был одним из организаторов белогвардейского восточного фронта против Советской власти.— И тут, посмотрев на Кунафина, потом на карманные свои часы, Сеня вдруг сказал:— Действительно, товарищ Кунафин, нужно на сегодня закругляться. Я вижу, товарищ Корнилов непрерывно хочет что-то сказать, но это в другой раз.
«...Ночь... темь... река... люди... телеги... коровы... лед... багры... » — вспомнилось отчетливо Корнилову. Давно уже не было в этой картине такой отчетливости...
И Омск, и парад на городской площади, и генерал Бондарин верхом на белом коне, а потом встреча с ним в салон-вагоне, мост через Иртыш, вид с моста на кирпичные побеленные и поблекшие стены и строения крепости, в которой некогда обитал арестант Федор Достоевский, на этот Мертвый дом, и незаконченный разговор Корнилова с генералом тоже отчетливыми были картинами, живыми.
«Воспоминания» Бондарина, эту нынче подсудную книгу Корнилов в свое время читал-читал, но понять не мог, не охватил ее ни взглядом, ни чувством, ни умом, ни памятью, столько там было событий, столько неопознанного прошлого, а товарищи Суриков и Кунафин, те сразу все поняли...
Корнилов хотел бы с чем-нибудь эту книгу сравнить... А с чем? С тем, что могло бы в русской истории быть, но чего так и не было? Но такие сравнения бывшего с небывшим никогда не прельщали Корнилова, казались ему болезнью мысли, признаком ее вырождения.
«Ну, хорошо, ну, ладно, и Сеня, и Кунафин сами по себе очень мало соображают, но, если ничтожно малую величину помножить на 100, на 1 000, на 10 000, на какую угодно цифру, она все равно остается тем, чем была, то есть величиной ничтожно малой?! Так утверждает математика, которая все, что утверждает, то и доказывает. И, значит, даже огромный ум и тот ничтожно мало понимает историю?!» — в полнейшем каком-то сумбуре восклицал про себя Корнилов. Восклицал, а в это же самое время очень, очень хотел понять историю.
«26 октября 1922 года красные войска, предводительствуемые Уборевичем, заняли Владивосток. Бондарин не эмигрировал, остался в городе и решил предаться властям, чтобы держать ответ за свои прошлые преступления против Советской власти»,— сообщал Вегменский в предисловии к «Воспоминаниям».
Бондарин же писал:
«Внимательный анализ пережитых пяти лет привел меня к убеждению:
1) что только Советская власть оказалась способной к организационной работе и государственному строительству среди хаоса и анархии... Оказалась властью твердой, устойчивой, опирающейся на рабоче-крестьянское большинство страны;
2) что всякая борьба против Советской власти является, безусловно, вредной, ведущей лишь к новым вмешательствам иностранцев и потере всех революционных достижений трудового народа;
3) что всякое вооруженное посягательство извне на Советскую власть как единственную власть, представляющую современную Россию и выражающую интересы рабочих и крестьян, является посягновением на права и достояние граждан Республики, почему защиту Советской России считаю своей обязанностью.
В связи с изложенным, не считая себя врагом Советской России и желая принять посильное участие в новом ее строительстве, я ходатайствую (в порядке применения амнистии) о прекращении моего дела и об освобождении меня из заключения».