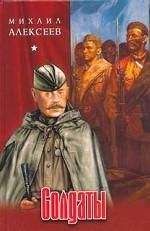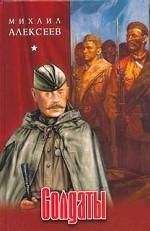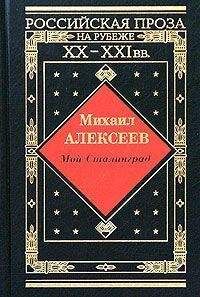Михаил Алексеев - Драчуны
Так или иначе, но хлеба были сохранены. Не думаю, чтобы решающую роль тут сыграла наша «легкая кавалерия», но именно она была на ту пору героиней. Для этого хорошо постарались и местные и районная пионерские организации. В конце уборочной страды, в которой мы, дети, приняли самое активное участие, в Баланде был проведен слет бойцов «легкой кавалерии» (кстати, до сих пор не могу взять в разум, откуда явилось это название – коней у нас не было, может быть, имелись в виду наши мальчишеские ноги, которые по шустроте лишь самую малость уступали лошадиным).
Первый раз в жизни я был участником такого торжества, такого шумного, пестрого, яркого праздника. На затянутой кумачовой материей трибуне стояли районные руководители, в их числе и самый глав-ный первый секретарь райкома партии. Кто-то успел подвязать ему новенький пионерский галстук, затем такие же пламенные полоски оказались на других стоявших на трибуне и на всех на нас, заполнивших центральную площадь поселка, против памятника Владимиру Ильичу Ленину, поставленного совсем недавно. Речей, которых было произнесено очень много, я почти не слышал, потому что был оглушен бурно стучавшим сердцем и прихлынувшей к ушам кровью. Венцом торжества было награждение пионерскими костюмами (костюм этот состоял из белой ситцевой маечки и синих сатиновых трусиков). Награды вручались ребятам, наиболее отличившимся в охране урожая. Когда были названы мое и Ванькино имена, мы переглянулись и покраснели, вспомнив о Карпушке, которого отпустили с мешком ржаных колосьев, и о корове, которую приняли за отряд «кулацких парикмахеров». Шли к столу с горкою легких свертков, взявшись за руки, и я слышал в своей ладони горячую и вспотевшую от волнения Ванькину ладонь.
Не помню, кто вручал нам маленькие свертки, что говорил при этом, – помню только, что вся кровь, струившаяся по всем жилам, кинулась в лицо; сердце застучало у самого горла, затруднив дыхание; глаза осветились небывалой, неслыханной радостью, ни прежде п никогда после не испытанной мной. Счастье было огромное и полное, может быть, еще и оттого, что не обойден наградою и почестями и Ванька и что произошло все это в момент, когда между нами наступил желанный мир, вернувший нам дружбу и распахнувший, как нам казалось, широкие и светлые дали. Мы не знали и не могли знать в тот ясный осенний день, что стоявший уже у порога год 1933-й приготовил для нас испытания куда более тяжкие, чем те, через которые мы уже прошли. Так, не выпуская из своей руки руку вновь обретенного друга, мы не прошли – пробежали семнадцать верст, отделявших районный центр от нашего села. Мы б сжимали эти руки еще крепче, еще горячей, если б знали, как они пригодятся нам, когда начнется новая битва – битва за то, чтобы отстоять свои маленькие и хрупкие жизни на родной земле. Но мы ничего не знали и не хотели знать, потому что до краев были наполнены ощущением праздника, которое хотелось бы сохранить как можно дольше в сердце.
Хоть и было свежо под вечер, когда впереди показались первые избы Монастырского, мы все-таки поскидали с себя прежние доспехи и облачились в новенькие пионерские костюмы. В сравнении с рубахой и штанами, сотворенными мамой из ею же сотканного холста, фабричное одеяние показалось мне таким легким, что я не чувствовал даже его прикосновения к телу и сам уж казался себе каким-то нереальным, невесомым. Свернув холщовое облачение в жесткий комок, небрежно сунул его под мышку и, неблагодарный, готов был вообще закинуть куда-нибудь подальше, позабыв, чем ему обязан. Ведь эти несокрушимые, как кольчуга, штаны и рубаха служили тебе верой и правдой как летом, так и зимой; они не рвались, не расползались, когда ты лазал по деревьям, опустошая грачиные, сорочьи и пустельжиные гнезда; рубаха спасла тебя от верной смерти, когда ты сорвался с вершины высоченной ветлы и где-то уж у самой земли зацепился подолом за сучок и повис над верной своей могилой за какой-нибудь миг до рокового исхода; штаны не протирались ни на коленках, ни в других, особенно нежелательных местах, когда ты ерзал по обнаженным кирпичам печки и ползал ночами по чужим бахчам и огородам; рубаха принимала за пазуху любой твой груз – гороховые ли стручки, яблоки, груши и даже небольшие арбузы и дыни и не выпрастывала себя из штанов, когда ты во весь дух убегал от огородного, садового или бахчевого сторожа и когда на голом твоем пузе трепыхалась, как живая, твоя незаконная добыча.
Был лишь один случай, когда самотканка здорово подвела, предательски подставила мой зад под жгут крапивы, примененной караульщиком в качестве оружия для вразумления таких вот добрых молодцов, как я. Рубаха зацепилась за кол в тот критический момент, когда я собирался, убегая, перемахнуть через плетень, чем не преминул воспользоваться Спиридон Сорокин, отец Михаила Сорокина, прежнего нашего председателя. Пока я трепыхался на плетне в тщетной попытке сорваться с кола, сторож успел надергать старой, особенно жгучей в таком возрасте крапивы и, приспустивши мои штаны, прошелся со всем возможным усердием крапивным жгутом по моим ягодицам. Но то было чрезвычайное происшествие, чэпэ, как бы мы теперь сказали, и его едва ли стоит принимать в расчет. Заслуг у холщовой моей справы было несравненно больше: чаще всего лишь ею я и мог прикрыть свою наготу; надобно иметь в виду, что почти у всех деревенских ребятишек моего и Ванькиного возраста во все времена года не было исподних ни рубашек, ни трусиков, ни тем более кальсон, – самотканые штаны и рубахи – единственное, что нами нашивалось с весны до поздней осени, до белых мух, как говаривал дедушка Михаил, то есть до самой зимы, да и зимою на нас были все они же, эти сверхноские мамины произведения, прикрытые какой-нибудь драной шубейкой или состряпанным из лоскутков овчины пегим пиджачишкой (последнее обычно шил для меня, по слезной просьбе моей матери, старик Равчеев, дальний наш родственник по отцовой линии, замечательный портной, на всю зиму поселявшийся у нас и портняжничавший). Много хорошего можно было бы сказать о наших великолепных штанах и рубахах, и все-таки тогда я (да, кажется, и Ванька тоже) легко расстался с ними, потому что не терпелось увидеть себя в обновке.
Перед тем как вступить в село, мы повертелись друг перед другом, придирчиво оглядели – он меня, а я его, поправили майки, откусили нитки там, где они высовывались (фабричное клеймо, разумеется, сохранили), вскинули подбородки, согласно шмыгнули носами и, донельзя счастливые, двинулись вперед. Чтобы подразнить других ребятишек, не увенчанных такими наградами и почестями, нарочно избрали самый длинный путь к нашим дворам. Околесив село дважды, мы дали людям налюбоваться нами вдоволь и только уж потом направились домой. Однако я и тут не удержался, чтобы не заглянуть сперва на дяди Петрухин двор и не покрасоваться перед родственниками, – Ванька отнесся к этому с полным пониманием и не отставал от меня. Зато и я не был против того, продолжая свое путешествие, чтобы мы сначала заглянули в Ванькин дом, а затем уже в мой: что поделаешь, каждому из нас хотелось предстать в таком виде и перед своими родными, и перед родными своего товарища.
Плескавшаяся через край радость требовала, чтобы мы поделились ею с другими, что мы и делали и в тот день и в последующие. У моей матери сорвалась слеза, и она страшно смутилась, увидав на костюме сына расплывавшееся пятно, – уголком платка тотчас же его промокнула. Дедушка уселся поосновательнее на лавке, поманил пальцем к себе и, подхвативши меня с боков руками, стал медленно поворачивать перед своими глазами, довольно мурлыкая; за пламенный язычок галстука даже легонько подергал и зачем-то понюхал его. Вернувшийся с полей Ленька не был допущен ко мне вовсе: мать опасалась, как бы он не обнял меня от избытка чувств и не испачкал обновы.
– Тоже мне герой! Ишь вырядился! – лукнул он в мою сторону, но в голосе его мне почудилась скорее зависть, чем обида. Увернувшись ловко от мамы, он все-таки вознамерился было облапить меня, но тут уж вступился дедушка, вставший перед Ленькой грозной, непреодолимой стеной.
– Только дотронься, мошенник! – пригрозил при этом старик. – Видишь, на стене чересседельник?.. Это вин тебя ждет. Я ить не погляжу, шо ты такий вымахав, отшлепаю за милу душу!.. Так що видчепись от Михайла!..
Ленька скользнул озорнущим глазом по чересседельнику, который действительно висел на гвозде у стены, и «видчепився», – повернувшись к матери, попросил:
– Мам, вытащи из печки чего-нибудь. Жрать до смерти хочется.
Ванька еще раньше убежал к себе или к своему дяде в Непоче-товке – не знаю точно куда, не проследил: было не до того, я в третий раз собирался совершить путешествие по селу, проведать всех остальных друзей и прежде всего, конечно, Мишу Тверскова: вот он-то уж будет рад по-настоящему моей награде. Покажусь я не в последнюю очередь и Яньке Рубцову, главным образом потому, что этот скупердяй и трусишка наотрез отказался вступить в нашу «легкую кавалерию», и вот теперь пускай посмотрит, какой великой потерей поплатился он за это. Забегу потом и к Кольке Полякову, и к Миньке Архипову, живущему по соседству с Колькой, и к Петеньке Денисову-Утопленнику, и под конец к Гриньке Музыкину-Тверскову (этому в награду за то, что он в самом начале взял мою сторону в наших драках, дам несколько конфет-подушечек, обнаруженных нами в маленьких кулечках, спрятанных районными товарищами в свертках вместе с пионерскими костюмами). Дам по одной конфетине и другим, окромя Яньки: этому – шиш с маслом, я еще не забыл нашей с ним рыбалки, где Янькина скупость проявилась особенно отчетливо.