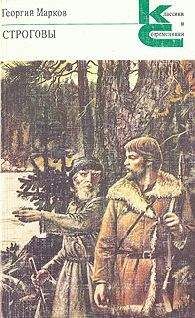Феоктист Березовский - Бабьи тропы
Старик Гуков поддержал старосту:
— Вестимо, бабы набрехали… а солдаты мутят…
Потрясая контуженной головой, Сеня Семиколенный громко, по-петушиному пропел:
— Вот это да-а, Якуня-Ваня!
Вдруг из толпы, накаленной полуденным солнцем, вылетел раздраженный и хрипловатый голос Афони:
— А в писании тоже враки, мать честна?
За ним крикнул кузнец Маркел:
— А за что же мы кровь лили?
Загалдели мужики, закричали все враз:
— Неправильно байт Филипп Кузьмич!..
— В городу отменили царя!..
— За что воевали?
— Не надо нам царя-антихриста! — выкрикивал мельник. — Не надо!
— Неправильно! — кричал дед Степан. — Пал царь! Па-а-л!
— Против писания говорит староста! — орали кержаки.
— Неправильно! — орали фронтовики. — Врет староста! Вре-от!
Побелел Валежников. Дрогнули у него ноги в коленях. Картуз выпал из рук. Попробовал перекричать народ:
— Погодите ужо…
Но видел и понимал, что не перекричать ему мужиков. Видел, что у мужиков огнем горели глаза и наливались кровью обветренные бородатые лица. Стеной лезли к крыльцу. Наперебой орали:
— Отменить царя!
— Довольно настрадались!
— Отменить!
— Доло-о-ой!..
Пуще всех надрывался Сеня Семиколенный. Он махал над головами мужиков своими длинными руками и звонко выкрикивал:
— Будя, погалился над нами царь! Будя, Якуня-Ваня! До-ло-о-ой!
— Отмени-и-ить! — кричала толпа.
Покрывая рев, над толпой прозвенел молодой и задорный голос Павлушки Ширяева:
— Долой царя!
Павлушку поддержал Андрейка Рябцов:
— Долой!
И вслед за ним закричали почти все фронтовики:
— Доло-о-ой!
Надрывался и староста, стараясь перекричать толпу.
— Да погодите же!.. Послушайте… меня-то!.. Меня!.. Старики!.. Братаны!.. Послушайте!..
Понемногу толпа стала утихать.
Староста кричал, багровея:
— Ведь не против же я, мужики!.. Ну кто против миру пойдет?
— Зачем мутишь? — выкрикивали отдельные голоса.
— Сам идешь против миру!..
— В городе отменили царя! Пора и нам…
Староста перебивал крикунов:
— Я же вам говорю, раз обчество за падение царя — разве я пойду против?!
Из толпы раздался густой и громкий голос Панфила:
— Приговор надо!
— Приговор! — закричали в толпе.
— Приговор надо писать!
— Выноси стол!
— Черни-лу-у-у!
— Панфил! Выходи, пиши!
— Выходи, Панфил!
— Давай стол!
Бледный, перепуганный староста ушел в дом. А через минуту из сеней на крыльцо полез небольшой скобленый стол, за ним показалось брюхо и борода старосты, потом — старостина Маринка с пузырьком чернил, бумагой и ручкой. Арина Лукинишна, жена старосты, и их сын Ванятка вынесли две табуретки.
Среди крика и гомона фронтовики вытащили стол на середину двора и сомкнулись вокруг него тесным и плотным кольцом.
— Как будем писать-то? — спрашивал Панфил старосту, усаживаясь на табуретку около стола и раскладывая бумагу.
Староста безнадежно развел руками:
— Не знаю, мужички… истинный бог, не знаю!.. Не приходилось… про царя писать… не приходилось…
— Пиши сам, Панфил! — закричали фронтовики. — Пиши, как есть.
— Отменить и все!..
— Пиши: по шапке царя… и все!
— Пиши, Панфил! Чего тут мудрить?
Панфил поднялся на носки и, оглядывая через головы толпу, спросил:
— Сколько нас тут? От скольких дворов писать?
— Ото всей деревни пиши! — кричали фронтовики. — Ото всех!
— Нельзя ото всех, — возражали старики. — Может быть, есть, которые не согласны…
— Ото всех пиши!
— Да ведь нету их, всех-то, — настаивали некоторые богатеи.
— Все согласны!
— Ото всех пиши!
— Все-е-е!..
— Нельзя!..
— Пиши-и-и!..
Заспорили мужики. Опять загалдели. Трудно было разобрать: кто чего хочет.
Панфил махнул рукой. Опустился к столу и, обливаясь потом, торопливо и коряво стал выводить слова на бумаге, шевеля губами и перечитывая написанное.
Склонившись над ним, с одной стороны следил за письмом и подсказывал староста, с другой — свое нашептывал Панфилу на ухо мельник Авдей Максимыч, а в затылок говорил Маркел-кузнец.
Панфил прислушивался больше к голосам Маркела и мельника, стараясь составить приговор так, чтобы он был приемлем для большинства мужиков.
В открытую калитку входили новые группы мужиков и парней. Толпа росла, запрудила уже весь двор старосты. Только не слышно было в толпе бабьих голосов. Из всей деревни четыре смелых нашлись: около стола терлись жена и дочь старосты, а у калитки, в тени, стояла, опираясь на клюшку, бабка Настасья Петровна да пряталась за нею Параська, дочка Афони-пастуха.
Толпа вокруг стола шумела. А Панфил все писал и писал.
Некоторые нетерпеливо покрикивали:
— Ну, что там?
— Кончайте!
Другие одергивали крикунов:
— Погодите вы…
— Не шаньгу проглотить…
— Тише, галманы!
Вытер Панфил рукавом гимнастерки крупные капли пота с лица. Встал на табуретку.
Толпа замерла.
— Ну, слушайте, что я тут написал! — заговорил Панфил, возвышаясь всей своей широкоплечей и бородатой фигурой над толпой и глядя в бумагу: — Не знаю, ладно, нет?.. Трое мозговали. — Он оглянулся на Маркела-кузнеца и добавил: — Пожалуй, даже четверо…
— Читай, — подбадривали его голоса из толпы. — Читай!..
Панфил читал с остановками и запинками:
— «Мы, крестьяне деревни Белокудрино… Чумаловской волости… собрались сего дня на сход… числом семьдесят домохозяев… и, прослышав от верных людей о падении царя в городе… а также от священного писания, в котором сказано: пришел конец власти царя-антихриста… постановили всем миром… Отменить царя-антихриста и всех слуг ево… отныне и до века… И признать всем нашим мужикам слабоду… в чем и подписуемся».
Панфил остановился. Обвел толпу глазами. Спросил:
— Правильно, мужички?
Дружно и торжественно толпа гаркнула:
— Пра-виль-но!
— Теперь, которые грамотны, — крикнул Панфил, — идите сюда к столу… подписаться… А за тех, которые неграмотны, другие распишутся… Крестов тоже наставим…
— Верно, дядя Панфил!
— Подходи, братаны!
— Подходи, Якуня-Ваня! — взвился над толпой петушиный голосок Сени Семиколенного.
— Правильно, мать честна! — грохнул Афоня-пастух. — Подходи, паря… подписывайся!
Вдруг из середины толпы вырвался громкий, но будто надтреснутый голос деда Степана Ширяева:
— Постойте, мужики… Не всё прописали… Постойте!
Толпа умолкла. Головы повернулись в сторону деда Степана. А он, работая локтями, пробирался к столу и повторял:
— Не всё прописали!.. Не всё!.. Должен я обсказать миру… Сейчас буду перед миром говорить, как на духу перед попом… Всю правду выскажу!.. Постойте!..
Посторонились мужики. Около стола образовалось пустое пространство.
Дед Степан вырвался туда, заметался из стороны в сторону и начал рубить трубкой по воздуху, выкрикивая:
— Братаны! Мир честной!.. Пал царь-антихрист!.. Чуяло мое сердце… Правильно сказывали звероловы!.. Пал окаянный живодер!.. Слабода нам дадена… Хорошо поставили приговор, ну только не всё…
— Говори, Степан Иваныч, — закричали из толпы. — Говори!
Староста спросил:
— Ты чего горюнишься-то, Степан Иваныч! Сказывай… что надо-то?
— Вот что надо, мужички, — продолжал дед Степан, захлебываясь слезами. — Рад я, братаны, дождался… отменили царя!.. Ну, только должен я обсказать миру… как есть я поселенец, братаны… лишенный всех прав слугами царскими… Вот, мир честной…
Дед Степан вдруг повалился на колени перед мужиками.
— Вот… каюсь перед миром! Поселенец я… Человека загубил… дружка своего… Пьяным делом… Каюсь, мир честной! Молодой я был в ту пору… и пьяный… Каюсь!.. Но только всю жизнь страдал я, братаны, мучился!.. Галились надо мной слуги царские… От людей я хоронился… Теперь… ежели слабода… прошу обчество… чтобы вернуть мне все законные мои права… Не могу больше, братаны!.. Мочи моей нету!
Староста взял деда под руку, помог подняться:
— Встань, Степан Иваныч, встань…
Хмурились мужики, прятали друг от друга глаза. Никто не ждал такого признания от Степана Ивановича. Одни не помнили, а другие совсем не знали, когда и откуда пришел и поселился в Белокудрине дед Степан. Напрягая память, припоминали, как прожил Степан Иванович жизнь. И ничего плохого не могли припомнить… Хороший старик. Работяга. И семья вся работящая, обходительная.