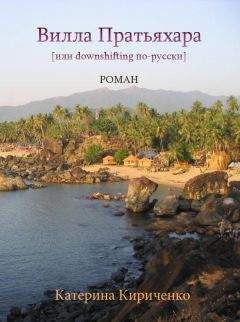Петр Кириченко - Четвертый разворот
— Что ты здесь делаешь?
Вопрос явно был адресован Рогачеву; он ничего не ответил, взглянул на меня как-то виновато, и мне стало жаль его. Была секунда представить все Глаше дурашливым розыгрышем. Я промолчал, время было утеряно. И тут Глаша сказала мужу, что он, видать, снова взялся за старое.
— Хочешь, чтобы я пошла куда следует? — спросила она тихо и даже ласково. — А ты, — она оглянулась на меня. — Ты куда его толкаешь? А?!
Я повернулся и вышел из комнаты. Татьяна стояла у кухонного окна, лицо у нее было заплаканное. Я подошел и положил ей руку на плечо, она ее скинула.
— Я же просила тебя не входить, — сказал она тихо. — А что же теперь...
— Мне надоело, что вы шепчетесь у меня за спиной. Ты не хочешь что-то сказать, а он...
— Уйди хотя бы сейчас, — прервала она меня тихо. — Прошу!
Но тут же резко выкрикнула, что я никого не вижу, кроме себя. Что ж, возможно, это и так. Я ничего не ответил и пошел в прихожую. Из комнаты долетал голос Глаши, которая, видать, приканчивала Рогачева; говорила она громко, с повизгиваньем, и единственное слово, которое я разобрал, было «содержанка». Перед тем как выйти, я задержался на секунду, словно была возможность вернуться и что-то исправить, а затем открыл дверь.
Когда я стоял на автобусной остановке, то увидел, как из-за угла показались Рогачевы; Глаша вела мужа так, как водит милиция — чуть впереди себя. Чтобы не встречаться с ними, я поймал какого-то частника и уехал домой.
Татьяна говорила, куда ни вылетай, все равно окажешься в Мурманске. Это так: мы с нею и познакомились в Мурманске, на одном из таких рейсов. В Ленинграде я ее не приметил, но в полете Тимофей Иванович вдруг заговорил. Это само по себе было настолько удивительно, что я прислушался. И удивился еще больше, когда уяснил, что он говорит о бортпроводнице: он ведь о какой-нибудь гайке не сразу решится голос подать, вначале прошепчет, губами и руками давая понять, что не сказать это просто не мог.
Рогачев повернул к нему голову и спросил:
— Ну и что?
— Новенькая, — пояснил Тимофей Иванович. — Стесняется.
И замолк, похоже, насовсем.
Рогачев лениво заметил, что все новенькие кажутся именно такими.
— А что еще?
Тимофей Иванович только пожал плечами, полагая, что и так сказал слишком много. Переспрашивать было бы бесполезно, Рогачев оставил механика в покое. Меня же Тимофей Иванович от души порадовал: пожалуй, впервые он высказался определенно, а главное, обратил внимание на то, что обычно обходило его стороной. Я подумал, что если дело пойдет так и дальше, то он со временем разговорится. Было любопытно присмотреться к новенькой и узнать, что же так потрясло Тимофея Ивановича, благо мы два часа не могли вылететь из Мурманска: повалил такой густой снег, что видимость упала до двести метров. Побывав у диспетчеров и синоптиков, мы возвратились на самолет; Рогачев, Саныч и бортмеханик сидели в пилотской, изредка переговариваясь с диспетчером — не улучшается ли видимость, — а я устроился на первом ряду пассажирского салона и, привалившись плечом к обшивке, смотрел то в иллюминатор, за которым мельтешил снег, то на Татьяну. Я рассмотрел ее и не нашел ничего особенного, но, кажется, смутил ее своим взглядом. Она поплотнее закуталась в пальто и продолжала читать. Книгу она держала на расстоянии, как когда-то учили в школе, переворачивала страницы неторопливо и один раз взглянула на меня.
— Интересно? — спросил я, и она утвердительно кивнула.
Ничего особенного в ней я тогда не приметил. Темные глаза — внимательные и даже несколько холодные; волосы выбивались из-под шапки и делали ее женственной. Но не это задело Тимофея Ивановича. Возможно, что-нибудь и прояснилось бы, если бы она заговорила: женщина тогда и становится видимой, когда не молчит. Кажется, так утверждал Рогачев... Но не спрашивать же ее, что она читает, и не говорить о метели. Ее напарница спала где-то на последнем ряду, пилоты сидели в своих креслах. Но тут из пилотской вышел Тимофей Иванович, и я сказал, что в салоне становится холодно и надо бы запустить систему обогрева.
— Не то мы заморозим наших девушек, — кивнул я на Татьяну.
Механик уставился на нее вопросительно, как бы спрашивая, насколько справедливы мои слова. Я ожидал, что его лицо изобразит замерзающего в степи человека, — нет: впервые Тимофей Иванович никого не копировал, и вид у него был такой, будто бы он силился что-то вспомнить. Он смотрел на Татьяну, и она оторвалась от книги.
— Пока что терпимо, — сказала она и улыбнулась.
Тимофей Иванович исчез в пилотской, а я подумал, что его и задела улыбка, беззащитная и немного наивная, которая совершенно меняла лицо. Когда Татьяна улыбалась, исчезала холодность, и на нее хотелось смотреть долго.
— Спасибо! — поблагодарила она меня.
Я ответил, что экипаж обязан заботиться о проводницах и пассажирах, особенно о симпатичных, Татьяна покраснела, и это было удивительно, поскольку я не сказал ничего особенного. Вот тут можно было и разговориться, что-нибудь спросить, тем более что она положила книгу на стол, как бы ожидая вопроса. Но я подумал, что не надо надоедать, встал и ушел в пилотскую, где механик уже запускал двигатель.
— Желаешь девушку обогреть? — весело спросил Рогачев, поворачиваясь ко мне. — Сначала она его зацепила, теперь — тебя, так, гляди, и до меня очередь дойдет. А, Саныч?
— Не могу знать, — откликнулся Саныч, не поворачивая головы. — Все мысли о работе.
Рогачев хмыкнул, а механик взглянул на своего кумира несколько косо, видать, что-то ему не понравилось Я не стал поддерживать разговор, забрался в свою кабину, повернул до отказа задвижку, чтобы теплый воздух не бил в лицо, и сидел там, дожидаясь, пока метель поутихнет и мы взлетим. Мне вспомнилось, как однажды Рогачев выдал нам грязный анекдот: я тогда напомнил, что он уже угощал им нас, и спросил: «Отчего это вас так тянет в грязь?» Он помолчал, пожевал губами и поинтересовался: «Кого это, вас?» Отвечать мне не пришлось: Саныч сказал, что рассказываются одни и те же анекдоты и, что самое удивительное, они все больше нравятся.
Когда мы взлетели и пошли домой, я еще не представлял, заговорить мне с Татьяной или уйти после рейса, но думал об этом. И о том, что она, наверное, с кем-то встречается и застенчивость еще ничего не значит. Похоже, я боялся получить отказ, и, поймав себя на этой мысли, вышел на кухню и сказал первое, что пришло в голову:
— Через минуту будем падать, поэтому...
Она взглянула на меня пристально, поверив, наверное, что мы действительно будем падать. Успокоив ее, я предложил поговорить после рейса и ткнул пальцем в часы, показывая, что мне некогда. Она зачем-то оглянулась на напарницу, которая снова спала, пристроившись на контейнере, и сказала:
— Если меня разгрузят сразу... Обычно это бывает долго.
Это-то я знал и без нее, сказал, что буду ждать на автобусной остановке, повернулся и пошел в пилотскую. Прежде чем открыть дверь, я помедлил секунду, чтобы не влететь туда с разгону, и повернул ручку. Тимофей Иванович встал, пропуская меня, а Рогачев поинтересовался успехами. Отвечать я не стал, нырнул в свою кабину, и тогда он спросил:
— Кажись, пора падать?
— Давай, — подтвердил я. — По десять метров, удаление двести.
И, вызвав диспетчера, запросил снижение.
Когда мы приземлились, сдали самолет и документы и собирались идти на автобус, я сказал, что немного задержусь в аэропорту. Саныч молча протянул мне руку, а Рогачев пошутил.
— Попался гусь! — воскликнул он весело и хлопнул меня по плечу. — Давай, давай!
Говорить с Татьяной оказалось легче, чем я предполагал. Увидев меня на автобусной остановке, она подошла и весело спросила, быстро ли она справилась. Я ответил, что приготовился к худшему. Сначала Татьяна держалась немного настороженно, но потом, когда мы уже ехали в автобусе, она разговорилась, смотрела на меня так, будто мы были давними друзьями. Я спросил, давно ли она работает.
— После отпуска уйду, — сказала она вместо ответа. — Уже решила.
— Почему? — удивился я. — Не нравится летать?
— Нравится, но дело в другом, — призналась она и вроде бы смутилась оттого, что об этом надо говорить. — Первые дни я приезжала в аэропорт за три часа, так мне хотелось побыстрее в самолет, а после почувствовала, что это все какой-то обман... Ну, не обман если, то что-то не то, бежишь, торопишься, улетаешь и все на том же месте...
Я невольно улыбнулся: такие мысли приходят людям только под конец жизни, а некоторых не посещают и вовсе.
— Что, глупости говорю? — заметила улыбку Татьяна. — У вас так не бывает?
Я вздохнул: очень даже бывает, и спросил, сколько же она отлетала. Оказалось, почти год. Удивительно, мы никогда прежде не встречались. Выходило, Татьяна уже не новенькая, и Тимофей Иванович ошибся. Мы еще поговорили, вспомнили о метели в Мурманске, и Татьяна вдруг сказала, что наш командир какой-то загадочный и угрюмый. Я ответил, что он человек ответственный, много думает о работе и печется о своих подчиненных.