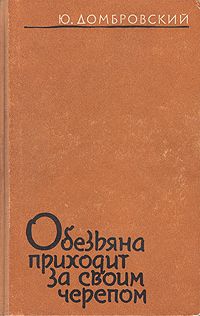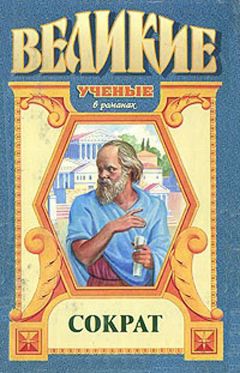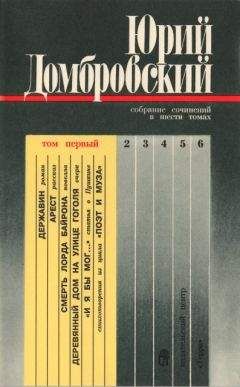Юрий Домбровский - Рождение мыши
Она с минуту думала, а потом честно сказала:
— Не относится, Володя мне действительно нравится — он чистый, хороший, воспитанный, нежный. — «Не такой, как вы с Николаем», — понял я. — И я зря сказала, что он ваш друг, — я знаю, вы его все недолюбливаете. Но был бы он ваш враг, все равно нравился бы мне — вот и все, что я могу пока вам сказать.
— Пока? — спросил я.
— Да, — ответила она твердо. — Да, пока!
Я выпил свой стакан и задумался. Ну что ж, всему свой срок и черед. Продолжать этот разговор было бы уже бессмысленно. А Нина сидела и смотрела на меня.
— А ведь вы за этим и пришли! — сказала она вдруг.
— Ниночка, — строго ответил я. — Я пришел прежде всего затем, чтобы вас увидеть. Только за этим! Вот увидел и… — я стал подниматься.
Она ловко поймала меня за руку и усадила опять.
— Ну, не надо говорить со мной так, — попросила она, — уж и рассердились, конечно. Я в прошлое воскресенье чуть не погибла во цвете лет, где вы тогда были? Один Володя со мной возился! Изменщик — вот кто вы такой!
II— Ну, хорошо, пусть я буду, выражаясь высоким стилем вашей Даши, изменщик, но чуть не погибли-то вы, от чего ж? — спросил я.
— Так, ничего, — ответила она сухо, — раз вы не приходили… — Но, конечно, не удержалась на этой строгой высоте и заинтересованно спросила: — А разве вам ни Лена, ни Вол… ни Владимир ничего не говорили?
Я покачал головой. Она сразу же встрепенулась и забыла все свои обиды:
— Ой, это же ужас! Шел «Собор Парижской Богоматери», я играла Эсмеральду и вот… Вы же знаете Пиньку?
Ну, еще бы я не знал этого поганца, этого гнусного суслика, который свистал, подгрызал мебель (жильцы пообещали его выбросить, и поэтому, когда все уходили, его брали с собой) и так тяпнул Нину за палец, что ей с месяц пришлось носить черную повязку, к великой ярости режиссера, конечно. Еще бы я не помнил эту дрянь! У Николая только и разговора было о нем — подумайте: первый дрессированный суслик в мире!
Но тут следует сделать отступление.
Николай был журналист, но в нем, несомненно, сидел Брем — безумный растрепанный зоолог с огромными глазами и истеричной любовью ко всему живому. Нам всем иногда приходилось солоно от его штучек — то черепаху тебе подарит, и она грохает по квартире и гадит во всех углах, то занесет белых мышей и оставит их на пару дней, а они живут у тебя всю зиму и до истерики каждый день пугают Ленку, а она, кажется, только мышей и боится. Но надо было быть Ниной, чтоб переносить все, чему он ее подверг за два года их совместной жизни.
Животных она вообще не любила («Вот уж когда мне будет шестьдесят…»), а он переехал к ней с филином Попкой, ежом (а это похуже даже черепахи) и золотыми рыбками — вуалехвостами.
Днем Попка сидел на елке и только хлопал глазами, а ночью летал по комнате, бил посуду, если ее забывали на столе, и ухал.
Не успела Нина привыкнуть к Попке, как появился волчонок — Вольфганг (значит, тезка Гёте). Николай с шиком водил его по городу, и, когда заходил в театр к Нине, Вольфганг сидел возле галош и зонтиков, и возле него всегда стояла толпа. Если к нему подходили, то он сразу же вскакивал и рычал, при этом шерсть у него вздыбливалась, а глаза зажигались желтым накалом. Нина его ненавидела, страстно, как человек человека, до дрожи в голосе, и когда он вдруг сдох (его кто-то отравил), молча подарила мне автоматическую ручку с золотым пером. Но место Вольфганга заняла ручная лиса. Это был умильный ласковый зверь, но репутация у него была преотвратительная: у соседей по даче пропадали куры, разлетались голуби, кто-то рвал кроликов, и, хотя преступник ускользал, а улик не было, все говорили, что у Лизаньки (так звали лису) рыльце сильно в пушку. Лису кто-то застрелил или украл — в общем, и она пропала, — и появился ворон Nevermore (помните у Э. По: «Ворон крикнул: Nevermore!»). Вот его Нина уважала и даже дружила с ним. Ворон сидел постоянно на одном месте, молчал и ни в какие домашние дела не мешался.
— Ну вот, — лояльно говорила Нина, — что я про него могу сказать? Солидная пожилая птица, никого не трогает, не скандалит, пусть живет хоть еще сто лет — пожалуйста!
Но за вороном появилась Воспитанница — это была царственно великолепная рысь. Ее Николай (а после конца Вольфганга и Лизоньки он быстро поумнел и что-то понял) выкармливал где-то в глубоком подполье, тайком от всех нас, и привел к Нине только тогда, когда она из котенка превратилась во взрослого зверя.
Нину рысь не замечала, она хозяйкой ходила по ее коврам, лапой отворяла двери, когда хотела спать, прыгала на Нинину кровать и сбрасывала подушки, встречала и провожала гостей и, когда мы вечером собирались вокруг самовара, сидела, выпрямившись, на отдельном стуле и внимательно слушала разговоры. Она занимала у Нины бездну времени. Бывало, зайдешь к ним и Нина выбегает из кухни с засученными рукавами. «Ниночка, с чего это вы сами занялись стряпней? Даша-то где?»
— Проходите, проходите. Я готовлю Воспитаннице ужин. Варю мясо. Сейчас освобожусь!
А рядом ходит Воспитанница — важная, холодная, вежливая и обнюхивает шубу.
Раз я сказал:
— А знаете, Ниночка, мне иногда кажется, что хозяйка-то здесь Воспитанница: Николая она признает, а вас прописала на жилищных излишках.
— А что ж, — ответила она очень серьезно, — вот знаете, Николай как придет, так прямо к ней, и они целуются.
Я рассмеялся.
— Да вам вот смешно, — огорчилась Нина, — а у нее, может быть, эхинококки — ведь она все-таки кошка!
Я схватил Нину за руки и повернул к себе.
— А ну-ка, посмотрите на меня — да вы же ревнуете!
Она обиделась, вырвалась, фыркнула и ушла на кухню.
— А что вы думаете, — крикнула она мне оттуда, — из Джамбула послал телеграмму: «Здоровье Воспитанницы», а обо мне ни слова, — разве ж не обидно?
А через десять минут я видел, как Николай и Воспитанница здоровались, — они целовались-миловались, хлопали друг друга то руками, то лапами, ложились на ковер, переворачивались с боку на бок и мурлыкали. А Нина стояла рядом и уж не сердилась, а смеялась и чуть не плакала от умиления.
— Да куда ж ты к ней лицом, у нее же глисты! Ну смотрите, Сережа, как жить с таким уродом!
Но я знал — она, между прочим, и потому его любит, что он урод.
Конец Воспитанницы был таков.
Когда Николай уехал на фронт, а Нина спешно вернулась с гастролей, рысь целый день ходила за ней, вопросительно глядела на нее и мяукала (это не мяуканье, конечно, это гортанный лесной крик, немного похожий на призывный крик оленя). Подойдет к Нине, встанет против нее, смотрит и требовательно мяучит. Нина, которая сразу похудела, побледнела и вдруг приобрела легкую походку лунатика, продолжала по-прежнему заботиться о ней.
Горе сближает больше, чем радость, и однажды Даша рассказала мне об одном их разговоре.
— Плохо тебе? — грустно спрашивала Нина у рыси. — Скучно? А мне каково? Вот легла бы рядом с тобой и замяукала! А кормить-то тебя надо! — Рысь молчала и смотрела на нее. — Эх, зверина! Я-то тебя понимаю, да ты-то никак меня не поймешь.
А так все шло по-прежнему. Мясо у Воспитанницы было всегда, и когда я приходил к ним, Нина, как и раньше, выходила из кухни в фартучке и с засученными рукавами, но Воспитанница не ходила уже вокруг меня и не нюхала морозную шубу, а тихо лежала на своем матрасике под роялью и дремала. Только когда мы сели за стол, она вдруг поднялась, подошла ко мне, постояла и ушла. Когда месяца через два я встретил Нину в театре, она мне сказала:
— А знаете, вчера приходили из зоопарка и уговорили меня отдать им Воспитанницу.
— Как?! — воскликнул я.
Она спрятала глаза.
— Под сохранную расписку, до его возвращения. — И так как я молчал, объяснила мне: — Ну, всю душу из меня вытянула — зацепит лапой за платье и тянет. А у меня и так все из рук падает. Вот уж вернется наш хозяин…
Но Нинин хозяин все не ехал, а слал жизнерадостные открытки, а потом и открытки перестал слать — замолк совсем, и Воспитанница так и осталась в зоопарке. Но однажды Нина позвонила мне и, не здороваясь, сказала:
— У меня такое горе — погибла Воспитанница!
— Как так? — обомлел я.
— Все я виновата, — голос у Нины дрожал. — Оказывается, они там стали ее запирать, а меня не было целую неделю. Она три дня ходила по клетке не останавливаясь — думали, привыкнет. Куда! У нее же характер Николая — с ними злом ничего не сделаешь! Вечером ее стало рвать, а утром пришли, а она уже холодная. Что ж я теперь ему… — Голос у Нины дрожал, и она замолчала.
Так погибла Воспитанница моего друга — остались ворон, золотые вуалехвосты, филин Попка да суслик Пинька.
IIIШли дни и месяцы. Николай давно попал в рубрику пропавших без вести, в волосах у Нины появилась серебряная прядь.
Золотые вуалехвосты сдохли, ворон и Попка улетели, только Пинька — любовь и гордость Николая — все жил и портил мебель. Он словно чувствовал, что у него все впереди.