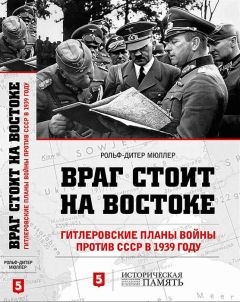Юрий Бондарев - Тишина
Сергей спросил:
— Хочешь сказать — мне не уходить из института? Ждать, когда Луковский попросит? Хватит! Хватит, Гришка. Я не пропаду. Будет время — кончу институт. Думаешь, я с охотой ухожу? Разыгрываю оскорбленную гордость?
— Забываешь про нас! — разгоряченно сказал Косов и качнулся к Сергею. — Я соберу ребят, мы пойдем к Луковскому, в райком…
— Мне Свиридов сказал, — Сергей усмехнулся. — Мое исключение — это борьба за меня. Партия не карает, а воспитывает.
— Партия — это не Уваров и Свиридов, леший бы задрал совсем! — крикнул Косов. — Партия — это миллионы, сам знаешь. Таких, как ты и я!
— Но в райкоме верят Свиридову…
— Мы слишком много учитываем и мало действуем! — не дал договорить Косов. — А надо действовать. Бог не выдаст, свинья не съест!
— Я все время придерживался этого. Но я уже решил, Гришка. Ничего переигрывать не буду. Все уже сделано. Я уже был у Луковского. Поеду в Казахстан.
— Это что — твердо? — спросил Косов.
— Я не пропаду. Разве во мне дело сейчас?
Он чувствовал едкий запах известки из коридора, до боли резал глаза яркий свет лампы на голом шнуре. И лица Косова, Подгорного, стоявшего в одних носках на полу, и похожее на блин робкое лицо Морковина, наблюдавшего за ним со своего чемодана, вроде бы отдаленно проступали в этом оголенном свете лампы. И в эту минуту он понимал, что знает нечто большее, чем все они.
— Самое страшное, Гришка, не во мне.
Одновременно взглядывая на Морковина, Косов и Подгорный замялись с каким-то недобрым напряжением. И тот, обняв круглые колени, придавив их к груди, растерянный, вдруг густо покраснел и покорно и тихо потянул из-под матраца брюки, начал, не попадая ногой в штанину, надевать их.
— Тю! — произнес Подгорный. — Ты куда ж?
— На вокзал, — уже натягивая рубашку, путаясь в пей, ответил срывающимся голосом Морковин. — Я мешать не буду. Я ведь не партийный… В одной комнате живем, а разговоры врозь. Как же жить вместе? А может, я… как и вы… Сергея тоже понимаю… понимаю… Может, вы думаете, что я… думаете, что я…
Его пальцы никак не могли найти пуговицы на рубашке, и когда Сергей увидел его опущенное и будто что-то ищущее лицо и слезы обиды, внезапная жалость кольнула его. И он, как и Косов и Подгорный, недолюбливавший Морковина за его постоянную расчетливость, за его излишнюю бережливость (деньги от стипендии прятал в сундучок на замке, живя иногда впроголодь), сказал дружески:
— Посиди, Володя. Никто из нас не думает…
Тогда Подгорный с нарочитой ленцой почесал в затылке, сказал: «Ах, бес, ну воображение!» — и тут же грубовато-ласково обхватил Морковина, посадил на чемодан.
— Ну шо ты козлом взбрыкнул? И слухать не хочу — ухи въянуть. На вокзал вместе поедем. Уразумел?
Морковин, съежившись на чемодане, все искал, тормошил пуговицы старенькой черной, приготовленной в дорогу рубашки, — и Косов выругался, с сердцем отшвырнул носком ботинка кусок ватмана на полу. Сказал:
— Забудь про эти слова! С ума сойти от твоих слов можно. Понял, Володька?
И долго смотрел под ноги себе.
— Это долго не может быть, не может, Сережка. Знаешь, — заговорил он, — мне вчера один тут… знакомый рассказал. Одного журналиста арестовали за то, что у него в мусорной корзине газету с портретом Сталина нашли. Ну за что, спрашивается? Кому это нужно? Бред! Может так долго продолжаться? Нет. Уверен, как черт, что нет.
— Знаю, — ответил Сергей. — Если бы я не был уверен! Не знаю — дождутся ли там?
Подгорный, сузив глаза, подтвердил задумчиво:
— От главное. Ой, чи живы, чи здоровы все родичи гарбузовы, есть така песенка, братцы…
Косов, как бы отталкиваясь маленьким кулаком от железных спинок кроватей, кругами заходил по комнате.
— Когда я набирал себе в разведку, то всегда узнавал ребят так. Подходил к какому-нибудь верзиле сзади и стрелял над ухом из нагана. Вздрагивал, пугался — не брал. Пугливых в разведке не надо. И пугливых в партии не надо. Мы что — трусим? Полны штаны? Нет, надо идти в райком, братцы! Сами себя перестанем уважать. Нет, Сережка, надо, надо! Все равно надо! Этот дуб Свиридов под ручку с Уваровым такую чистоту в институте наведут — ни одного стоящего парня не останется! Ну ты как, Мишка? Ты как?
Подгорный ответил после раздумья:
— Дашь сигнал к атаке — пойду. Танки артиллерию поддерживали. И наоборот. — И темно-золотистые глаза его улыбнулись Сергею не весело, не с фальшивой бодростью, а как-то очень уж грустно.
В ознобе Сергей прислонился спиной к косяку двери, стараясь согреться, но чувствовал, как мерзли от промокшего плаща лопатки, а голова была туманной, горячей, — и смутно появившаяся на секунду мысль о том, что он может заболеть, вызывала странное, похожее на облегчающий покой желание полежать несколько дней в чистой постели, забыться, не думать ни о чем. Он знал, что этого не сможет сделать.
— Я провожу вас до автобуса, — сказал он. — Вам, наверно, пора? Собирайтесь — я подожду.
— А! — отчаянно произнес Косов, рубанув рукой по воздуху. — Деньки, как в бреду… беременной медузы! Собирай, братцы, манатки! И — гайда до осени. А осенью — или пан, или пропал. Или грудь в крестах, или… — Он поднял свой чемодан и резким движением бросил на стол.
— Пан. Прошу пана — пан, — без улыбки отозвался Подгорный.
Они собрались быстро — студенческое количество их вещей не требовало большого времени для сборов, в пять минут все было готово. Косов одним нажатием колена на крышку управился и с чемоданом Морковина, сказал, небрежно пробуя на вес: «Чемоданчик ничего себе — аж углы перекосились!», а Морковин затоптался возле Косова, отворачивая свое круглое конопатое лицо, пробормотал с беспокойством:
— Разве уж тяжелый?
— Ладно! — обрезал Косов. — Пошли. Понесешь мой чемодан, я — твой. Боюсь, для твоего чемодана у тебя слабы бицепсы.
А когда выходили они из общежития и Косов легко перемахнул из одной руки в другую тяжелейший деревянный чемодан Морковина, Сергей почему-то вспомнил известную слабость Косова — демонстрировать свою силу: о нем говорили, что, если потребуется перенести все шкафы и столы из аудиторий во двор и обратно, Косов один сделает это с удовольствием.
И хотя Сергей понимал, что и Косов и Подгорный знали то, что знал он, и чувствовали все, как он, и оценивали многое так же, однако он все время ощущал свое отличие от них — это письмо отца в нагрудном кармане под плащом — и думал, что они не знали всего так оголенно, больно и так ясно.
Они вместе — все четверо — дошли до автобусной остановки и здесь, остановившись на краю тротуара под фонарем, в стеклянный колпак которого буйно хлестали дождевые струи, стали прощаться.
— Старик, до осени, — сказал резковато Косов, глядя на Сергея угрюмо, исподлобья, не желая быть растроганным в последнюю минуту, но так стиснул кисть Сергея, точно всю силу надежды вкладывал в это рукопожатие.
— Перемелется, Серега, мука буде. Ось поверь — мука буде, — выговорил Подгорный с дрожащей улыбкой и легонько обнял его. — Ось поверь, мука буде…
— Счастливо, — сказал Сергей, скрывая голосом рвущуюся нежность к ним и слабо веря, что они расстаются ненадолго.
И когда взглянул на Морковина, на его как бы замкнутое в поднятый воротник куртки и напряженное желанием помощи лицо, увидел его часто мигающие от дождевых капель веки, он еле внятно услышал его прерывающийся от волнения шепот и почувствовал вцепившиеся в его руку пальцы.
— Ведь я тебя всегда… хорошо к тебе… Ты не замечал, а я уважал… И сейчас… Прощай покуда, Сергей.
— Ладно, Володя, ладно, — сказал Сергей. — Счастливо вам.
Они сели в автобус, и теперь не было видно лиц за замутненными стеклами, лишь мутно темнели силуэты, и эти освещенные окна качнулись, сдвинулись, поплыли в мокрую и жидкую тьму улицы, и потом огни автобуса стали мешаться с огнями фонарей, совсем исчезли, а тут, на мостовой, где только что стоял автобус, пустынно поблескивал асфальт, усыпанный прибитыми к нему дождем тополиными листьями.
Сергей повернулся и пошел, глубоко засунув руки в карманы промокшего плаща, пошел по темному тротуару, один среди этой безлюдной, шуршащей дождем улице, а озноб все не проходил, его била нервная дрожь.
«Что ж, и смерть, мой сын, бывает ошибкой…», «Поверь мне, что я невиновен…» — вспомнил он, и рвущие бумагу буквы, написанные химическим карандашом, всплыли перед его глазами.
18
В начале августа после трех суток езды сквозь сожженные степи в прокаленном зноем металлическом вагоне Сергей сошел с поезда на новеньком вокзале «Милтукуголь» и под моросящим дождем вышел на привокзальную площадь, сладковато пахнувшую углем, незнакомым южным запахом.
Город начинался за площадью, вокруг которой по-раннему редко светились окна, и там меж очертаний домов, меж черными шелестящими карагачами, как показалось ему, в самом центре города проходила одноколейная дорога — свистяще шипел маневровый паровоз, мелькали над крышами багровые всполохи, и там протяжно пел рожок сцепщика, доносился лязг буферов, глухой грохот по железу.