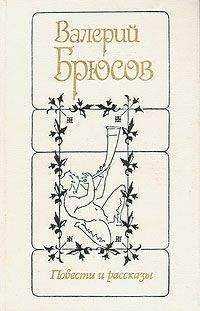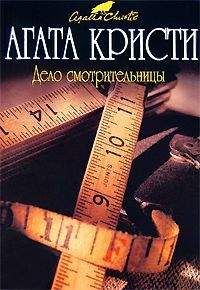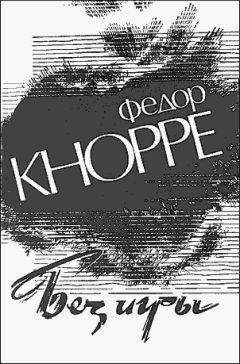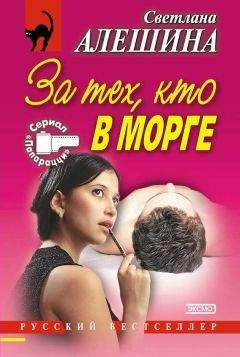Федор Кнорре - Рассвет в декабре
За столом, по обыкновению громче всех, ораторствует двоюродная сестра, курсистка Муся! Воинственно взмахивая, точно палочкой дирижера, чайной ложкой, наскоро облизанной от вишневого варенья, она декламирует, среди добродушного пересмеивания окружающих, самоновейшее заумное стихотворение.
Почему-то Алешка, хоть и очень занятый в это время выкраиванием все новых вариантов наиболее мерзких шутовских рож, то выпячивая, то сплющивая свое отражение в круглом боку самовара, все-таки, к удивлению, запомнил: «сумнотечей и грустители зовет рыдательственный жалел, за то что некогда свистели, в свинце отсутствует сулел» — и даже был уверен, что в общем уловил какой-то смысл. Ах эта курсистка Муся, вечно она против чего-нибудь гневно бунтует, что-нибудь яростно ниспровергает, задиристая, смешливая до слез, всегда восторженно переполненная чем-нибудь новым и самоновейшим, все равно чем: идеями, стихами футуристов, танцем кэк-уок, обруганными спектаклями; только бы нашлись противники — она вечно наготове кинуться очертя голову в бой на врага, с ожесточением влететь в чужой разговор на бешеной гоночной скорости, мешавшей ей даже слова как следует договаривать…
Печален этот поздний дар: знать человека и поневоле знать всю его дальнюю, даже конечную судьбу. Знать, что эта всенасмешливая, весело бунтующая Муся, вдруг свято уверовав, полюбит или, полюбив, уверует в гениальность и великую судьбу мрачного молчальника, здоровенного как бык художника Бакалеева, равнодушно и даже отчасти снисходительно презиравшего все, что было до него. В мире. В живописи. И вообще.
Наперекор обязательно предполагаемой в таких случаях деспотической, но на деле оказавшейся весьма робкой и уступчивой воле родителей, с восторгом попирая презренные мещанские условности и пошлые мелкобуржуазные ценности, с высоко поднятой головой, она уйдет к никем не признанному художнику на его аскетический чердак…
С каким жадным и гордым упоением она готова была дать бой, защищая свободу своей личности и женские права! Но, к некоторому ее разочарованию, родители только очень расстроились, всячески стараясь не показывать своего огорчения — они сами очень стеснялись своей старомодной отсталости, зная, что надо примириться с тем, до чего их поколение не доросло.
Простодушные их опасения, что художник вскоре обязательно окажется пропойцей и попросту бросит ее, что казалось весьма вероятным ввиду ее востроносенькой некрасивости и неизлечимой холостяцкой бездарности по хозяйству, совершенно не оправдались. Художник оказался работягой с бычьей силой и упорством. Характер у него был, правда, очень гадкий — вздорный, капризный и угрюмый, но работал он до судорог в руках, выстаивая по шестнадцати часов у полотна. У него был свой метод, долженствовавший перевернуть и аннулировать мазню всех, кто брался за кисть до него. Громадные картины он писал самой крошечной кисточкой: сперва выписывал скелеты, потом на них наносил мышцы и кровеносные сосуды, поверх выписывал кожу со всеми порами и только тогда, если нужно, наносил костюм: штаны, сапоги, рубахи. Этот способ должен был привести к рождению новой эры в живописи. Годы труда он тратил на одну картину, а когда дело доходило до портретов, они получались не очень похожими — но это так и должно было быть, зато вздувшиеся напряженные мышцы всегда чем-то разъяренных, натужных силачей, без внешнего сходства, но со скелетами внутри, получались гениально, и, к счастью, Муся это понимала и, беззаветно принося свою жизнь в жертву его гению, ходила в заплатанных ботинках и безобразно заштопанных чулках, с гордостью одевалась в постепенно все больше старевшие платья, неохотно встречалась с родными, старавшимися ее незаметно подкормить, не рассказывала ничего о себе и только снисходительно напоминала, что гениев и прежде никогда не понимали современники; а выставки у нас организуют злобные, завистливые бездарности, как огня пугающиеся новых талантов, и она только гордится тем, что его работы не принимают на эти несчастные выставки… Еще бы они попробовали! Ведь все бы тогда увидели!.. Ха-ха!..
Когда долгое время спустя художник умер, она сразу заявила, что не позволит разбазаривать по разным музеям его полотна.
Она годами писала язвительные письма художникам и строгие заявления в учреждения, требуя, чтобы для его произведений был построен особый музей. Только позже она согласилась на отдельную залу. Потом она перестала писать письма, но долго жила в непреклонной, великой голодной нужде, в его холодной мастерской, окруженная со всех сторон здоровяками, натужно силившимися, вздувая мышечные бугры, что-то сдвинуть, повалить, поднять, опрокинуть. Ужасными, тупыми, все на кого-то ярившимися недописанными здоровяками, у которых кровеносные сосуды еще не были даже прикрыты кожей или одеты в рубахи.
В последние свои дни, уже понимая, и не смея понимать, прижимая к сердцу, отогревая дыханием, как стынущего больного ребенка, свою высохшую, окоченевшую, давно уже мертвую надежду, говорила себе: «Да не могла же напрасной оказаться вся моя долгая, полная энергии, самоотвержения и целеустремленности жизнь? Не могла же она быть отдана просто так, зря?» И хотя ответ как будто был: да, напрасно, да, зря, — она держалась почти до самого конца.
Только в день, какой-то совсем уж из последних ее дней, когда, после долгого молчания, ходившая за ней младшая ее сестра Маргарита, испуганная ее пристальным, пронзительно всматривающимся взглядом, робко спросила: «Ты что это, Мусенька?.. Куда ты так глядишь? Хочешь сказать чего?» — она вдруг невнятно, но громко проговорила:
— Потрох.
Надеясь, что это сказано в бреду, в бессознании, Маргарита растерянно стала переспрашивать, и Муся уже внятно, с беспощадной четкостью подведя черту под всей своей жизнью, медленно повторила:
— По-тро-ха… — и, с безнадежным отвращением отчаяния, в последний раз отвернулась к стене от недописанной фигуры не одетого в кожу здоровяка.
— Да… Муся… Бедная Муся… — давно знавшая эту историю жена уловила среди долгого молчания произнесенное вслух ее имя. — Правда, что она была немножко на мышонка похожа? Или это только на фотографии так получилось?
— Похожа. Нет, не лицом, а такие черные глазки… она не настоящего мышонка напоминала, а такого… смышленого, задорного, каких в детских книжках рисуют.
— Все-таки на мышонка… А Маргарита совсем красавица, блондинка.
— А ты… видаешь Маргариту?
— Заезжаю проведать. Она тебе поклоны передает. Ты ведь давно ее не видел?
— Давно… Не помню даже. Ей, наверное, уже очень много лет?
— Она и не говорит. Или выдумывает.
— Так ты к ней ездишь? Ведь уж ты-то ее совсем не знала. Я и то про нее как-то совсем позабыл.
— Да, мы даже на открытки ее перестали отвечать. Все-таки нехорошо… Я и стала навещать… иногда. Она меня угощает вашим семейным альбомом. Как чаем с вареньем. Для приманки…
Давно он с ней не разговаривал так дружелюбно, внимательно вслушиваясь в ее пустяковый рассказ. Он даже усмехнулся ей ласково:
— Как чаем с вареньем? Да? Понимаю. Да! Это чтоб ты еще заглядывала?
Она почувствовала, что у нее начинают щеки гореть от радостного возбуждения, точно при нежданной встрече после долгой разлуки. Легко вскочила на ноги и, вдруг решившись, оживленно воскликнула:
— А хочешь, я тебе принесу покажу кое-что? Хочешь? Посмотришь, какой ты был!.. Я тебя выклянчила!
Не дожидаясь ответа, она быстрым шагом, почти бегом выскочила из комнаты и чуть не наткнулась на Нину. Та стояла у самой двери, смотрела в окно, держась за ручку рамы и неудобно опираясь на нее подбородком.
— Прямо испугала меня! Когда ты домой вернулась, я не слышала. Ты давно так стоишь? Куда это ты смотришь?
Не оборачиваясь, Нина холодно ответила:
— Я смотрю в окно. Я вовсе не как-нибудь смотрю в окно. Я просто смотрю в окно.
Когда жена вернулась к постели Алексейсеича, Нина вошла за ней следом и уже вполне мирно спросила:
— Можно и мне тоже взглянуть? — При этом она, нагнувшись, положила руку на плечо матери.
Та покосилась на ее руку и примирительно откликнулась:
— Вот это твой отец, можешь полюбоваться.
Нина с удивлением впервые увидела картонную твердую карточку мальчика лет шести, сидевшего, поджав под себя одну ногу, в чужом кресле у фотографа. Светлые волосы слегка, вроде маленьких рожек, завивались у него над упрямым выпуклым лбом. Ничего общего с ее отцом Алексейсеичем не было у этого гладенького и сытенького мальчика. Боже ты мой, подумала Нина, сколько же пришлось потрудиться жизни, чтоб превратить его в этого неподвижного, беспомощного человека.
На картоне под фотографией после фамилии фотографа стоял о крупно: С. — Петербург. Нина воспользовалась этим, чтоб не выдать своих мыслей, и поскорей спросила первое попавшееся: