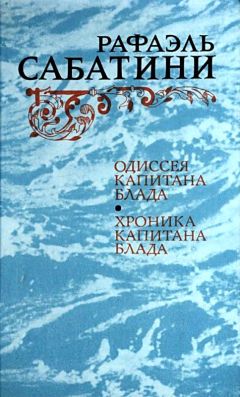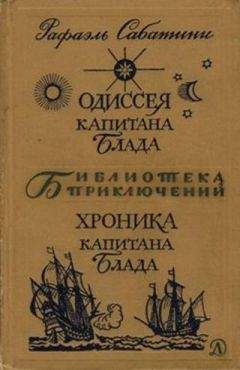Радий Погодин - Мост. Боль. Дверь
На следующий день открыла дверь на лестницу, на работу идти, а у дверей собака сидит. Я ее в дом позвала. Зашла. Осмотрела все, обнюхала и вышла, поджав хвост.
Врачей у меня знакомых, сам понимаешь, много. У каждого попросила рецепт на люминал. Говорят, он теперь от печени помогает. По аптекам проехалась… Но кто меня остановил? Может, Тонька-дворничиха твоего Мафусаила подослала?
— Нет, — сказал Петров. — Думаю, это не так. А как — не знаю. — Петров посоветовал ей слетать домой, собрать фотокарточки у подруг и школьных товарищей, да и дома, наверное, остались.
— Ты молодец, Петров, ты молодец. — Зина не заметила, что перешла с Петровым на «ты», а Петров заметил. Взял ее за руку.
Они шли вдоль Лебяжьей канавки поверху, а внизу по-над самой водой какой-то мужик, который сам себе очень нравился, вел на поводке могучего ротвейлера. Вернее, ротвейлер тянул его, и мужик, отбивая пятки о широкий гранитный поребрик, казался себе суровым, сильным и непоколебимым.
Зина поежилась.
— Лето будто из холодильника. Александр Иванович, пойдем ко мне, я кофе сварю.
— Так за что вы хотели выпить с Мафусаилом? — спросила Зина, разливая кофе.
— За цветение сонгойи, — объяснил Петров. — В Кении на горе Элгон расцвела сонгойя. Это похоже на взрыв, на лавину. Море нектара, разлитое по белым рюмкам цветов. Мириады бабочек, мириады пчел, орды муравьев и жуков. Счастье жизни и радость смерти… Давайте, за счастье жизни.
Петров чувствовал себя необыкновенно легко. Может быть, так легко он не чувствовал себя никогда. Он не ждал никакого подвоха, никакой обиды, никакой неуклюжей шутки.
— Александр Иванович, расскажите мне что-нибудь из вашего детства. Может быть, и мое быстрее вернется ко мне. Не сегодня — сегодня я очень устала.
В дверях она положила обе ладони ему на грудь. Ладони ее были теплые, он почувствовал сквозь рубашку.
— Я вас жду, — сказала она, — Петров, родненький, приходи, а?
На следующий день Петров пришел к Зине с тюльпанами.
Они сбегали в кино.
Всюду продавали тюльпаны, на всех углах, в подземных переходах и спусках в метрополитен. По восточному календарю шел год коровы, но назвать его следовало, как полагал теперь Петров, годом тюльпана. И Пугачева Алла пела: «Спою в бутон тюльпана…»
На следующий день Петров уехал в Москву, где должен был оппонировать в Московском библиотечном институте при защите кандидатской диссертации «Массовая культура и народное творчество — зависимость от тиражирования и средств доставки в эпоху научно-технической революции».
В ночь после банкета Петрову приснился сон из серии «Прогулка по городу». Образы сна несколько изменились — кроме домов, тронутых разрушением, были еще дома недостроенные. Он шел по городу не один — с Зиной. Пахло морем. Судя по фасадам зданий, город входил когда-то в Ганзейский союз.
В Москве Петров задержался на целую неделю, устраивая какие-то институтские дела, о которых, спроси его, он ничего не помнил.
Москва утопала в тюльпанах. В киосках и на голубых столах среди публики тюльпаны лежали снопами. Горожане несли в руках хрупкие букеты. Цветы сверкали в прозрачной хрустящей обертке и, может быть, благодаря ей выглядели птенцами иного мира.
И солнечный день, и Москва-столица были сделаны из целлофана. И не тюльпаны были, но сонгойя, могучий, обильный нектаром стробилянт.
Поторопится человек, наречет год коровы годом тюльпана, а выйдет так, что год-то все равно останется годом коровы, потому что вместо прекрасной женщины, при виде которой затрудняется дыхание, из дверей ее квартиры выйдет мужик. И захочется этими тюльпанами этому мужику да по роже, по роже. Но мужик тот силен, очень силен: бугры мускулов и тугие хрящи на стальном костяке.
Мужик стоял, привалясь к стене. Он был в кофейного цвета остро отглаженных брюках, в новой белой футболке с короткими рукавами. В твердых, плотно сомкнутых его губах был зажат лист сирени. Загар у него был хороший. Волосы темно-русые волной и седые виски. Лицо с прямым ровным носом, впалыми щеками и как бы утяжеленной нижней челюстью.
— Зину, пожалуйста, — сказал Петров. У него было чувство, что, задумавшись, он налетел на постового милиционера, помял об него цветы — теперь не знает, как быть.
— Мне Зину, — повторил он.
Мужик принялся жевать листик. Медленно двигались челюсти.
Медленно перемещался взгляд, задерживаясь на галстуке, на руках, на тюльпанах.
— Нету ее.
— А когда будет?
— Не будет.
— Может быть, вы поставите цветы ей на стол? — Петров протянул цветы. Мужик взял и сломал букет пополам.
— Петров, не ходи больше сюда, — сказал. Протянул сломанный букет Петрову. — Ну, ступай, Петров. Выброси из головы…
И Петров пошел.
На улице он сунул тюльпаны в урну. И долго пытался что-нибудь сообразить: куда идти, что делать, — может быть, в библиотеку, может быть, в пивной бар? О Зине он не думал — не думалось. Какие-то шторки преграждали путь мыслям о ней.
— «Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей», — сказал Петров.
В Петрове сейчас погибал царь, герой, дикий скакун, поэт и пахарь. Сердце Петрова ныло. Ему было горько и стыдно.
Падал замертво плясун — и поплясал-то всего ничего. Праздник цветения сонгойи пришел к завершению. Цветы увяли.
Но воробьи в его душе продолжали чирикать, как будто ничего не случилось. Тенькали синицы. А жаворонки в выси заливались нескончаемой, как небесный ручеек, трелью.
А ночью ему снился сон из серии «Военные приключения». Будто он, Петров, лежит на перекрестке двух улиц на окраине чужого города с ручным пулеметом. Никого нет. Петров прижимается к цоколю дома. Весеннее солнце согревает его, и асфальт под ним теплый. Но тоска и страх стиснули ему сердце, и он не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Кто велел ему занять тут позицию так далеко от своих?
Кажется ему, что жители дома уже навели на него какое-то дуло, целятся ему меж лопаток.
Но появляются веселые и нахальные Каюков и Лисичкин.
— Ты чего тут лежишь?
— Город уже давно взят. Вставай, пойдем на танцы.
Петров встает, отряхивает с выгоревшей гимнастерки белую тонкую пыль.
— На какие танцы? Идиоты, в моем-то возрасте…
И город тут же старится. Дома тронуло разрушением. На балконах и на карнизах проросли березки. Стекла сыплются из окон каменными слезами.
Мымрий
Пляж был щебенчатый. Старожилы ходили в туфлях-вьетнамках. Новички босые брели по острому желтому щебню, припадая на обе ноги. Руки их казались длинными, как у человекообразных измученных обезьян.
Купанье от жары не спасало. Не доставляло радости.
Петров сидел спиной к морю, пил египетское пиво, мягкое, бледное в темных бутылках с белыми пробками. Думал Петров о своем товарище Женьке Плошкине. О вкусных холодных борщах, которые готовила молодая жена Плошкина Ольга. Прямо в тарелку Ольга крошила груши. С Женькой Плошкиным Петров учился в одной школе в Свердловске. Плошкин был старше почти на два года, потому успел повоевать с японцами. Высок был Плошкин. Гибок в стане. Делал зарядку с гантелями. Бегал. По вторникам голодал. От голодания становился надменным. Петров представлял Плошкина бегущего, как молодой олень. От бега Плошкин тоже становился надменным. Массы называли его Евгений Ильич, Евгений Ильич… Жена называла Плошкин. И только Петров — Женькой.
Эти мысли о Плошкине, похожие на кинокадры, не мешали Петрову думать еще и о пиве. «Пиво из Египта везут, — думал он. — Полный пароход бутылок. Бутылки брякают и звенят. Пароход похож на клавесин».
Плошкин прочитал публикацию в журнале «Вокруг света» о празднике горных славян Зимнижар. И прислал телеграмму: «Петров приезжай обнимаю Плошкин».
Белые головки бутылок торчали из щебня, тела их находились в пещерках, в воде. Пиво было прохладным благодаря законам фильтрации и испарения.
Петров пил большими глотками. Каждый глоток шел по пищеводу ощутимо, как холодный неразжеванный пельмень.
Жара. Море потело. Солнце превращало сад души в пустошь, проникало внутрь желез и железок, разрушало чудеса гормональной алхимии, нарушало обмен веществ, исцеляло кожу от прыщиков.
Телеграмме Плошкина предшествовало событие само по себе незначительное, которое стало, однако, для Петрова началом ренессанса.
Его самолюбие, дремавшее в густых киселях благонравных, пробудилось вдруг тем холодным июньским вечером от хруста тюльпанов, как от хруста шейных хрящей, оглянулось встревоженно и увидело себя серой цаплей, уставшей стоять на одной ноге.
Тем же вечером айсберги белых ночей сдвинулись с ленинградской моренной гряды и поползли к Югорскому Шару.
Все было так замысловато. Все было так просто. Отчаянная воля Петрова к самоуважению получила неожиданную поддержку в лице аспиранта Пучкова Кости.