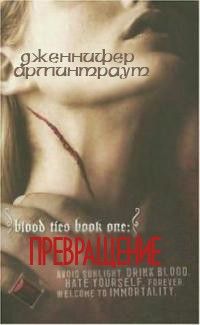Вениамин Каверин - Перед зеркалом
20.I.32. Париж.
...Как никогда важен теперь для меня «собеседник», тот, кто увидит мою работу в России и кому она передаст мои мысли и чувства. Мне страшно, что я притащу на родину свое грешное «тело», свои страдания, свои неосуществившиеся стремления, свои пристрастия и пороки... Борьба между душевной жизнью и действительностью, в которой я провела долгие годы, глубоко изменила меня. Я выработалась, как собственный двойник, я не та, какой могла бы стать, если бы у меня была другая жизнь. Все, что я видела до сих пор и переносила на полотно, было предопределено моим двойником, моим зеркальным отражением. Вот откуда эта жажда одиночества, эта мысль, что так и должно быть, что я могу обходиться без чужого лица, без постороннего взгляда. От беспредметности до одиночества — один шаг. «Я вижу так, а больше мне ни до кого нет дела». И только поняв это я снова стала искать возможность разговора с людьми. Для этого надо было поставить центр тяготения вне себя, вырваться из одиночества, убить в себе «двойника». Нельзя найти свое лицо, не переключая себя на других. Это вовсе не значит — перешагнуть через самого себя. Напротив, это значит овладеть собой — и это сделал Корн. Достигну ли я когда-нибудь полной власти над собой — не знаю. Тогда люди увидят мои холсты, и среди людей отберутся те, которых я заслужила.
Боюсь, что эти размышления покажутся тебе, в свою очередь, беспредметными, мой дорогой. Какое несчастье, какая беда, что я не могу поговорить с тобой не в письмах, не беззвучно, а во весь голос, перед холстами. Но ведь нельзя же представить себе, что мы никогда не увидимся. Это было бы...
Москва, 2 марта 1932 года.
Уважаемая Елизавета Николаевна!
Пишу Вам по просьбе Константина Павловича Карновского. Он находится в больнице им. Боткина (седьмой корпус, четвертая палата), и, хотя состояние его здоровья улучшается, однако ему еще надолго — может быть, на полгода — запрещена всякая умственная работа, даже чтение. Заболевание его очень редкое, называется арахноидит, а по-русски — воспаление паутинной оболочки мозга. Иногда оно является следствием травмы, но чаще — самого обыкновенного гриппа. Константин Павлович недавно перенес грипп, так что у меня причина его болезни не вызывает сомнений. Он часто спрашивает — нет ли для него писем, но лишь сегодня сообщил мне Ваш адрес и попросил передать, чтобы Вы не волновались, если некоторое время от него не будет известий. Но Вас он просит писать, как прежде, на его домашний адрес, откуда письма будет доставлять сосед по квартире. И я со своей стороны прошу Вас писать ему обычные письма, то есть такие, как если бы ничего особенного не случилось. Это может сыграть известную роль в его выздоровлении. Со своей стороны я буду время от времени сообщать Вам о его положении.
Желаю Вам всего хорошего.
Доктор Л. Безбородов.
20.III.32. Париж.
Костенька, я получила сегодня письмо от твоего врача, очень меня огорчившее. Конечно, я буду писать тебе, мой дорогой, а ты ответишь мне, когда поправишься, на все мои письма сразу. А пока спешу тебе сообщить, что на днях я встретилась с Бернштейном, помнишь, я тебе писала о нем? Я рассказала ему о своих хлопотах, и он был так добр, что отправился в консульство вместе со мной. Ответа из Москвы еще нет, но разговор был совсем другой, обнадеживающий. Бернштейн думает, что за дело следует взяться иначе: надо, чтобы за меня поручился или, по меньшей мере, прислал рекомендательное письмо кто-нибудь из видных советских деятелей — писатель или художник. Он знаком с А. Н. Толстым и обещал мне поговорить с ним по возвращении. Я теперь все думаю, как бы мне послать Толстому в подарок что-нибудь из моих работ. Да страшно, а вдруг не понравится! Мне кажется, что ему должны нравиться «мирискусники» — ведь его проза в этом духе, не правда ли? Тогда лучше, пожалуй, не посылать. Так или иначе, я верю, что все будет хорошо! Мы увидимся, увидимся непременно! Но я тебя умоляю, не торопи свое выздоровление. Я по себе знаю, как важно найти душевные силы, чтобы оставить себя в покое. Обнимаю тебя. Скоро напишу снова.
Париж.
Пока у меня ничего нового, мой родной, если не считать неожиданного, во всех отношениях, предложения — сделать фрески в шато одного богатого архитектора, очень симпатичного человека. Ты знаешь, я не робкого десятка, но тут долго сомневалась, прежде чем дать согласие. Правда, я предупредила заказчика, что технику знаю только теоретически. Ты, без сомнения, представляешь себе в общих чертах, что такое фрески. Тут многое зависит от штукатура, который готовит стену. Удалось найти очень опытного, но оказалось, что это и хорошо, и плохо. Пришлось мне самой взяться за дело, то есть он стал работать по моим указаниям. Конечно, дня не проходило без спора. То, что я говорила, шло вразрез с его опытом, он настаивал на своем и, когда меня не было, не раз портил работу. Никак не мог понять, что надо каждый раз перед работой класть грунт и писать по сырому, потому что, как только грунт высыхает, он уже не вбирает краску. Подбор красок тоже очень сложен, приходится пользоваться подкладочными тонами, усиливающими прочность и светосилу. Словом, это новая и очень интересная работа, о которой я мечтала еще в Стамбуле, копируя мозаики Кахрие-Джами. И наконец, что тоже весьма существенно, я получила солидный аванс, а когда работа будет закончена, совсем разбогатею. Не только расплачусь с долгами, но смогу спокойно работать по меньшей мере месяца три-четыре.
Вот так-то, мой родной. Все складывается хорошо. Я снова виделась с Бернштейном, и он сказал, что почти не сомневается в благоприятном ответе...
(Письмо не датировано)
Перед зеркалом
Не она, а Гордеев получил заказ от богатого архитектора, и все, что она написала о фресках, ей рассказал накануне Гордеев. Она действительно встретила Бернштейна на улице, и разговор о возвращении был, но это был совсем не обнадеживающий, а скорее обескураживающий разговор, хотя этот благожелательный человек искренне сочувствовал ей и обдумывал вместе с ней все возможности возвращения. Но она не была с ним в консульстве, и не только не была, а не посмела даже попросить его поехать с ней. Она понимала, что, несмотря на всю его благожелательность, он вряд ли сумеет ей помочь.
Он действительно был знаком с Алексеем Толстым, но не предлагал и не мог предложить Елизавете Николаевне обратиться к нему, потому что Толстой не стал бы хлопотать за незнакомого человека. Бернштейн назвал его как пример — «вот если бы такой человек, как Толстой...». Но среди ее русских друзей и знакомых не было такого человека.
У нее давно разладились отношения с Машей Снеговой, но все же она поехала к ней, вспомнив, что среди друзей ее мужа есть врач-невропатолог. Встреча состоялась, и врач сказал, что трудно что-либо посоветовать, не видя больного.
Елизавета Николаевна вернулась к себе, измученная, полумертвая. Хозяйка пришла, чтобы напомнить о долге, и раскричалась, показывая длинные желтые зубы...
Она писала Константину Павловичу чаще, чем прежде, и хотя это было трудно — притворяться, что ничего не случилось, как ее попросил об этом доктор Безбородов, — она притворялась. Когда-нибудь он прочтет ее письма и узнает, как она естественно, разумно лгала. Все устроилось: она задолжала за квартиру, но хозяйка — добрая женщина — охотно согласилась подождать, а потом, когда Елизавета Николаевна написала ее портрет, приняла его в счет долга. В Клямаре сейчас хорошо, цветут яблони, сливы и груши. Должно быть, весна загоняет в ее домик поэтов, на днях Маша приехала с молодым итальянцем, который, по ее словам, пишет почти как Д'Аннунцио. Она показала Матиссу последние работы, и он поздравил ее и сказал, что поговорит о выставке с маршаном.
Маша действительно приезжала с итальянцем, и он читал плохие стихи. Клямар был розовый и белый от яблонь и груш. Матисс действительно очень хвалил ее картины. Но выставить надо было не меньше 50—60 холстов, каждая тоненькая посеребренная рамка стоила очень дорого, а маршан сказал, что он готов рискнуть, но с условием — если где-нибудь, например, в «Les Echos d'Art», о ней появится статья или хотя бы заметка.
Теперь у нее было два существования. Одно — выдуманное, благополучное, в котором сбывалось все, на что она давно перестала надеяться. И второе — подлинное, голодное, спотыкающееся, в котором была одна опора — работа.
В молодости, когда жажда новизны окрашивала и оправдывала ее жизнь в Турции, во Франции, на Корсике, ее почти не мучила ностальгия. Константин Павлович был для нее Россией. Теперь, когда ее письма оставались без ответа, она чувствовала себя наказанной за то, что уехала, и неотвратимо, безнадежно одинокой.
После того как Елизавета Николаевна разошлась с Гордеевым, у нее образовался новый круг знакомых. Хозяйка прислала судебного исполнителя, маленького грозно-добродушного старика с пышными седыми усами, он ушел очарованный, взяв с нее обещание, что она напишет семейный портрет, — и по воскресеньям она стала бывать в шумном, любознательном, беспечном, истинно французском доме. То и дело к ней приезжали корсиканцы, с которыми надо было и приятно было возиться. Дух легкости, неунывания поддерживался, хотя ее решение — отказаться или почти отказаться от того, чем она прежде зарабатывала на жизнь: от зонтичных ручек, раскраски тканей, портретов на заказ — было, по мнению всех ее друзей, настоящим безумием. Но это решение было связано с другим, очень важным. Она не хотела вернуться на родину — если произойдет это чудо — с пустыми руками. Конечно, она все равно не могла не работать. Внутренняя необходимость, которую она не замечала, как не замечают необходимости дышать, заставляла ее писать каждую минуту, свободную от других необходимостей — есть, спать, заботиться об одежде. Но прежде эта главная необходимость была связана с надеждой на возвращение, а теперь надежда была подорвана.