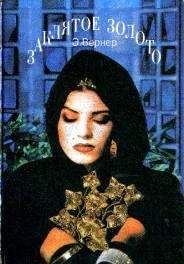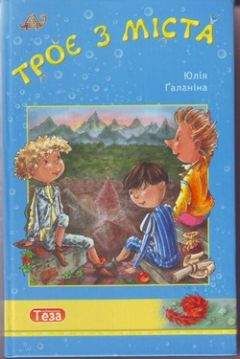Екатерина Шереметьева - Весны гонцы 2
— Говорят, тщеславие — двигатель… Не знаю, в технике — может быть… А для человека тщеславие, культ тщеславия — разрушитель.
Когда села на место, вспомнила, сколько еще не сказала, забыла… Пришли новые мысли…
* * *— …Вытаскивать правду в жизни и в искусстве, други мои! — Гриша разделил Алену и Валерия, взял обоих под руки. — «Гений и злодейство», — сказал Пушкин, гений и вранье, говорю я, «две вещи несовместные». И как это: «Слова всем словам…»?
— «Но слова всем словам в языке у нас есть: Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь», — прочитал Валерий.
— Дальше!
— «Повторять их не смею на каждом шагу, как знамена в чехле, их в душе берегу».
— Во-во-во! Это самое! «Как знамена в чехле…» Знаменами не размахивают в коммунальных кухнях, не прикрывают ими грязишку а-ля́ Недов. Тускнеет же смысл, высокие понятия и чувства…
— Все ясно.
— И тогда идеалом становится дача со всеми удобствами и, конечно, гаражом. Весомая сберкнижка… Черт их всех растуды!..
— Тебя мы доставили, Пассионария. Спи спокойно, дитя мое, ты сегодня…
— Ладно. — Алена махнула рукой и вошла в ворота. Услышала еще:
— Пойдем ко мне, Гришка. Стихи буду читать до утра. «Май жестокий с белыми ночами…»
* * *«„Май жестокий с белыми ночами“, — привязалась строчка. „Май жестокий“. Ведь ночь, а уже как днем… Хоть бы уснуть! В башке муравьи жалят… „Май жестокий с белыми…“ Не понять, не понять, ничего не понять! Подушка горячая, простыни, всё — будто сорок температура. Голова… Ох! „Май жестокий…“ К черту. Тетя матреша — молодец! Доброта — великое дело… „Очкарик“ длинновато, но интересно: „Вспышки формализма — это еще не обновление форм“, — умный!.. А может быть, „вспышки“ и „обновление“ связаны? „Май жесто…“ Опять! Агеша сказала „Надо наступать“, а я больше оборонялась. Если бы знать, если бы знать! „Май жестокий с белыми ночами…“ Агеша удивительный оратор, мы и не знали. „В искренности каждый неповторим, а кривляются все похоже“, — здорово! И ни в чем не виновата она, зря себя… Вот я-то уж… „Май жестокий…“ Голову жжет, все тело, будто не кровь, а какая-то горечь течет… Лилька, Лилька, что делать? Если б я что-то могла сделать!..»
Глава восемнадцатая
Я сердце свое никогда не щадила:
Ни в песне, ни в дружбе, ни в горе,
ни в страсти.
Прости меня, милый, что было — то было.
Мне горько, и все-таки все это —
счастье.
Стучат, стучат колеса… Где-то что-то вздыхает. Изгибаясь, пробегает по купе полоска света, ощупывает скамью напротив — одеяло, облегающее большое тело, полную руку в пестром рукавчике, стриженые седые волосы. Кто эта женщина? Кто там, на верхних полках? Завтра полдня еще ехать с ними. Как пахнет гвоздика! Сколько дорог вспоминается!..
Дороги с Сашкой… А душевная свобода с Глебом. К Сашке приспосабливалась, старалась нравиться. Для Глеба хотела быть лучше.
Сколько дорог впереди! Пора привыкнуть. А всегда тревожно, чего-то ждешь. Как пахнет гвоздика! А вдруг Глеб встретит, как два года назад? Он вернется не раньше октября. Не раньше. Не надо думать. Не надо ждать. Надо уснуть.
Странно, все странно. Хочется играть. И Дуню непременно. Хочется видеть ребят, Соколову, Рудного… Хочется и… больно… Будут мучить Сашкины дикие, ненавидящие глаза. Сильно пахнет гвоздика. Запахи накрепко связываются с людьми, событиями. Жасмин и розы — смерть — похороны Рышкова, Лильки…
…Тогда условились встретиться прямо на кладбище. Олег привез ведро, в нем большой букет жасмина и роз. На дне всякие инструменты и пакеты…
— Мама составила удобрения…
Он пошел за водой, Алена привязала букет у креста, грабельками собрала к калитке сухие листья, мусор, присела на скамейку. День был теплый, серый. Пахло землей, прелью, молодой листвой. И очень сильно — жасмин и розы. Зелеными облаками пушились березки. В красных сережках тополя. Среди жухлой травы торчали яркие тонкие стрелки. На могиле — красноватые побеги пионов и густо — крапива, лебеда…
Два года без Лильки. Пролетели. Немыслимо длинные.
— Осинка здорово подросла за два года. — Олег выплескивал ковшик за ковшиком и следил, как вода уходит в землю. — Когда зацветут пионы и люпин закроет ограду… Теперь земля мокрая, давай сорняки… Осторожно, легонько, чтоб с корнями.
Они присели на корточки по обе стороны могилы и начали полоть.
— Осенью придется снова чистить и подкармливать. И сирень тут у креста посадим осенью. Ты нас провожать-то придешь?
Алена только подумала, а Олег сказал:
— Деньги? Хочешь, пришлю? Отдашь из своих роскошных подъемных…
— Ладно, обойдусь…
— У меня же сейчас…
— Ладно, если понадобится. Я себя проклинаю…
— Приедешь к нам через год. Поверишь себе, ощутишь полную независимость…
«Это невозможно без Глеба».
— Кстати, ты уже стала свободнее. А Сашка… — Олег усмехнулся. — Парадоксально, а вдруг этот сокрушительный удар ему на пользу?
— С ума ты?!. Он даже состарился!
— Поживем — поглянем. Ну, кажется, чисто. — Олег собрал сорняки, бросил их на кучу мусора, потянулся. — Два года назад здесь был пустырь — помнишь? А ты… в общем… возврат невозможен? Для тебя?
— Что? Да и он ненавидит меня.
— А ты-то?
«Почему спрашивает? Неужели Сашка?.. Нет! С цыганским самолюбием…»
— Что — я? Жалко невыносимо. И — все.
— Уверена, что не любишь? Может быть?..
— Я люблю Глеба. И всегда любила.
Олег выплеснул на траву оставшуюся (больше полведра!) воду, стал кидать в него мусор.
— Ты зачем? Нам же еще поливать…
— Ну и подумаешь. Еще принесу. Не оставлять же здесь залежи.
— Потом унесли бы…
Олег уже шел к дороге. Что с ним? Когда вышла за Сашку, дружба с Олегом нарушилась. Неужели опять? Сейчас же он взрослый, умный… Должен понимать, что не легкомыслие…
Олег пришел весь обрызганный, с мокрыми волосами:
— Какая жаль, что век автоматики ликвидирует физический труд! — Он поставил ведро. — И водичка — прелесть! Теперь высыплем порошки…
— Я хочу, чтоб ты понял.
— Фу черт! Эта химия прорвалась… В делах сугубо личных всеобщее понимание…
— Ты друг или нет?
— Здрас-сте, приехали!
— А почему относишься ко мне…
— Обожаю, уважаю, преклоняюсь, пресмыкаюсь. Что еще надо?
Что с ним? Отстраняется? И даже злится?..
— Ничего не надо.
— Тебе надо вернуть огонь жизни, как Рудный говорит.
Олег сосредоточенно насыпал «химию» вдоль ряда люпина у ограды, потом ковшиком поливал, пока порошок, темнея, сливался с землей. Алена сказала:
— Следи за Валерием. Он не может один. Он…
— Должен за кого-нибудь держаться — знаю. Ты приедешь через год. Слишком изводишь себя, Алена. Гипертрофированное чувство ответственности. Это лучше, чем наоборот, но… Нечего себе харакири устраивать.
* * *Может быть, «Три сестры» придумали, чтоб она приехала, может быть, из-за денег. Все равно, всем и ей хочется увидаться, сыграть еще любимый их первый спектакль. И все равно без нее не сыграть. Завтра уже играть. Все вспоминается одно за другим… И не уснуть…
Последний спектакль.
Загримированная, причесанная Алена пошла за платьем Маши в большую комнату, где висели костюмы и гримировались мальчики.
— Ленка! — В одной руке у Валерия борода Вершинина, в другой кисточка. — Ленка! Последний раз мы с тобой любим друг друга!
Разве не знала, что последний? А от слова всю обожгло, сдавило горло:
— Последний… — поскорей ушла.
Казалось, никогда еще так тесно вместе, одним порывом не играли. Зрители Дома искусств — большинство актеры, народ легко возбудимый — аплодировали молодым неистово. Без конца вызывали: Маша, Вершинин, Тузенбах, Ирина, Наташа. И снова — Маша. Толпились в антрактах знакомые и незнакомые: «Ах, удивительный спектакль, коллектив, ансамбль!» Алена слышала все то же: «Женственность. Глубина. Тонкость. Волнующе молчите».
Подошел Вагин. Она по-ученически вскочила. Старик засмеялся:
— Поздравляю. Актриса. — И сказал тихо: — Только сейчас узнал: вы не едете с коллективом? К нам в театр не хотите?
Остаться в родном уже городе, в одном из самых крупных театров страны, под крылом старика Вагина, и, главное, вблизи Соколова, Рудный — не дадут завалить ни одну роль. Нет. Чтоб друзья могли думать… чтоб смела сказать Марина: «Ради личной карьеры!.. Бросила коллектив!» И еще что-то самой непонятное говорило «нет!».
— Спасибо, Лаврентий Сергеевич, спасибо! Только нет. Не могу. Уже договорилась…