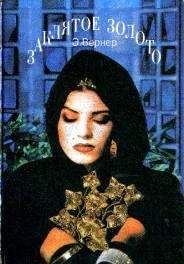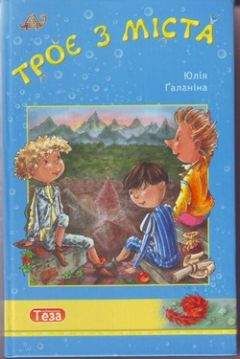Екатерина Шереметьева - Весны гонцы 2
— Как это Женька тебе? «Дарили музы всех цветов…» Нет — «веков»?
— Почему-то не врезаются в память эти гениальные строчки.
Валерий засмеялся:
— Иногда до черта хочется писать стихи… Но!..
— Что?
— Все, что я хочу, — уже сказано лучше:
Своими горькими слезами
Над нами плакала весна…
Алена слушала, как музыку, бархатный голос, певучий стих, не очень вникая в смысл. «Любит он Блока, заражается, заражается его чувством и заставляет понимать слова».
…И стало все равно, какие
Лобзать уста, ласкать плеча,
В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача,
И все равно, чей вздох…
— Бред! Муть! — почти крикнула Алена. — Как «все равно»? Что за отвратная всеядность!
— Ты что вскинулась? Когда ранен обманом, предан, унижен… крушение…
— Все равно не «все равно». Как может!..
— Ну, сама же говорила: «Сгорает сердце». А от боли — все равно: пить, развратничать, приткнуться к нелюбимому… к теплому…
— Нельзя!
— А Бесприданница? Карандышев ей даже противен…
— Другое же!.. Совсем другое! Нет же выхода! Она — «вещь», а мы…
— Что мы? Мы не «вещи» — прекрасно! А что нам поможет: Верховный Совет или Министерство социального обеспечения? Или открытия в астрофизике, кибернетике, или операция на сердце? Если человека не любят, да еще обманут — где выход?
— Стена.
— Или мы любим слабее, чем прежде? Не страдаем? Сама же говорила… — рассуждал Валерий.
— Нет «все равно», как хочешь, противно. Неразборчивость — безобразно!
Валерий усмехнулся:
— Возьму сейчас и грохнусь навзничь
И голову вымозжу каменным Невским.
— Нет, не надо. Не могу слушать стихи. Ненавижу я эту весну! Тянется, тянется… Вялая, неустойчивая, занудная… Мучит, как неизвестность…
Уже на лестнице Алена потеряла остатки уверенности.
«Сама предала — чего ждать? Разве можно верить такой? Зачем на Сахалин? А куда? Все равно одна. Сама предала его, себя, Сашку. „И стало все равно, какие…“ Ты не поверил. Ты написал: „Я тебе друг на вечность“. Бабушке написал: „Больше ничего не нужно мне“. Не поверил. — Алена остановилась, оперлась об стену. — И буду корежиться, как Сашка, — медленно поднялась еще на две ступеньки и села на окно. — Он любит меня. „И стало все равно“? Не может быть! Ему не может быть „все равно“. Я люблю, я сказала, что люблю… Не поверил? Ведь год прошел. Он говорил: „Дороже всех“. Куда деваться от боли? Как Сашка — водкой! Ему легче — не один, со своими. Зачем мне Сахалин? Куда деваться? Пить, развратничать, прислониться к нелюбимому? Ничего не могу, жить не могу. Если бы сын! Если бы… Он говорил: „Хорошая женщина“. Бабушке написал: „Больше ничего мне не нужно“. Не верит, значит…»
Внизу хлопнула дверь, кто-то стал подниматься по лестнице. Алена пробежала последний марш, открыла дверь, остановилась в темноте.
Куда деваться от боли?..
— Ты, Леночка?
Из дальней комнаты брызнул свет, осветилась столовая, бабушка в ситцевом халатике.
— Что ты сегодня поздно? Или показалось мне, отчего-то уснуть не могла. Как спектакль? Довольна? Устала? Сейчас чаек согрею, попьем с тобой. Умывайся.
«Бабушка. Его бабушка. Нет, она и моя. Все равно моя. Моя добрая волшебница. Бабушка, бабушка, вам жаль меня? Вы — моя бабушка. Вы — родная мне. Вы мне верите? А почему вы мне верите? Ушла — и целый год… Потом сказала: „Люблю“, — и опять!..»
Пили чай. Бабушка расспрашивала о спектакле. Было приятно подробно, не спеша вспоминать, снова ощущать силу.
Бабушка ушла к себе. В темноте, на широком диване Алена вдруг почувствовала себя выброшенной, ничьей, ненужной.
«Ласковы товарищи, грустно им думать о расставании, но Сашку берегут, он страдает, он нужнее… Правильно — сама виновата, жестокая… А Машу-то заменить некому. Галю сыграет московская девушка Лида Кравченко, Дуню (совсем иначе, конечно!) Глаша или вторая москвичка — Наташа Любич. А Машу некому. Некому. Некому! Некому. Пусть Сахалин! Пусть! Буду играть Машу, Галю, потом Бесприданницу, „Оптимистическую“… Ох, справиться бы только! Работать, работать, работать, как зверь. Все говорят — талантливая. Сама Анна Григорьевна сказала „везде возьмут“. И пусть возьмут… даже… И все прочитают в газетах. Пусть!.. Глеб прилетит в Москву… „Желаю славы“? Да, Да. Лилька, Лилька, „чтоб громкою молвою“. Да! Работать. Работать! Это уж никто не отнимет. Актриса. Хоть бы сегодняшнюю роль, нашу живую девушку… Почему драматурги не видят нас? Пишут мелочь: копнешь чуть, и — дно. Разве мы такие?.. Парням ведь проще жить. Где глаза, чутье, сердца у художников? Пьесы — либо треск, блеск и пустота, либо ползучая пыль… Напишут же! Чтоб можно все отдать, сказать до конца. Глебка! Люблю, люблю! Мне не „все равно“. Только ты нужен. Мне можно верить. Мне так нужно, чтоб ты верил!»
* * *«Объявляю собрание закрытым», — голос-колокол затих. Зал поднялся.
Как после хорошего спектакля, еще держалось ощущение силы, а мысль о потере уже ударила в сердце.
Топот ног, возбужденные голоса, толчея — будто весенняя вода шумно, двумя потоками вливается в берега беломраморных перил:
— Мама родная — полпервого!
— Собраньице!..
— Помощней кочетковского персонального…
— Соколовцы блеснули…
— Передовики — давно ясно.
— Двенадцать километров пёхом — будь здоров!
— Аленка! Строганиха! — зовет сзади Гриша Бакунин.
Остановиться нельзя — несет, успевай только ноги переставлять, даже оглянуться нельзя. Алена помахала рукой: «Слышу, но… сам понимаешь!»
— Поймать бы автобус…
— Интересно — Недова попрут?
— Такое не тонет…
— Строганова-то — неожиданно… Сильно́.
— Они все умные…
Вдруг над ухом говорит Глаша:
— Ты, правда, вполне членораздельно… вообще, здорово… Первый раз в истории… — На площадке ее отбрасывает волной.
Гриша берет за локоть Алену, их сжимают и тащат вниз.
— Ты, однако, премудро выступила… Не от философского ума, конечно… Все некогда тебе сказать: меня Рудный сосватал этому сахалинскому Безухову на диплом, ставить «Оптимистическую».
— Гришка! Хоть одна родная душа…
— Надо поговорить о Комиссаре. Чтоб ты уже летом думала…
— Непременно. Работать. Все лето буду…
В толкучке раздевалки на минуту рядом Олег:
— Умница, Алеха!
«Сказал или нет?» — как в чеховской «Шуточке».
Майка, проходя, улыбнулась дружески, Джек сжал Аленино плечо:
— Темперамент непревзойденный! И даже логика прорезалась, леди! — скорчил рожу и ушел за своей Майкой.
С Валерием и Гришей выходит Алена в вестибюль из гардеробной. В глубине, на опустевшей белой лестнице, Анна Григорьевна, Рудный, Душечкина, Еремин — новый секретарь — слушают Сашку. Он возвышается в центре. Увидел Алену, отвел взгляд и, она знает, думает о ней. Еще не так тепло, чтобы ходить в плаще, но у нее нет демисезонного. Сашка хотел купить в Москве, потом здесь, она тянула — ну и не купили. Сейчас у нее с деньгами туго, пришлось зимнее сменить на плащ. А Сашка клянет себя, мучается, что она без демисезонного… «Эх, только бы и горя! Странно устроен человек — в Сашке столько благородства, а мог обижать грубо и так оскорбить… Если б он знал, что мне еще хуже… как бы он? Как ему мое „логичное“ выступление? А, все равно!»
— Получился «последний решительный». Вообще — бенефис «соколовцев», — говорит Гриша.
— Теперь вижу тебя в «Оптимистической». Впечатляешь, так сказать, на трибуне. — Валерий берет под руку Алену. — «Или весенняя то нега?.. Или то женская любовь?» В тебя, что ли, влюбиться, Пассионария?
— Стелла уже по секрету выболтала ребятам, что Недову на партсобрании всыпали.
Алена ежится, холодно все-таки в плащике.
— Оба подлецы. Еще педагоги! Жуть! Неужели Недов останется?
— В институте вряд ли, — отвечает Гриша. — А вообще… заслуженный же! Уж если схлопотал себе званьице — выплывет где-нибудь на мутной волне. Вдруг еще встретим в Южно-Сахалинске — здрасте!
Гриша и Валерий хохочут.
— Пошли по набережной. Поэта я открыл, Гришка! Уснуть вчера не мог. «Много слов на земле…»
Алена уже знала об «открытии» Валерия, и оно даже помогло ей на собрании. Особенного ничего не сказала, только не спотыкалась, как раньше, и в общем ансамбле «соколовцев» сошло… Сашка молодец — здорово управлял этим взрывчатым собранием, хорошо начал: «Самый поступок Лютикова — беспримерное нарушение театральной дисциплины и этики — в обсуждении не нуждается. Понять, как могло произойти такое, поговорить о нашей профессии, о специфике работы актера, о том, что такое „свобода художника“». Голос, как колокол, охватывал зал, на отчаянно худом лице горели цыганские глаза. «Савонарола», — вспомнился Алене второй курс, самоотчет, Лилька…