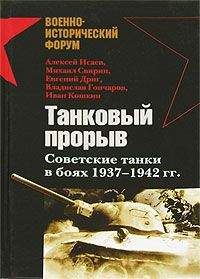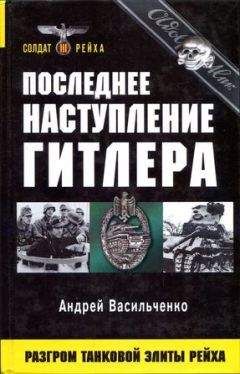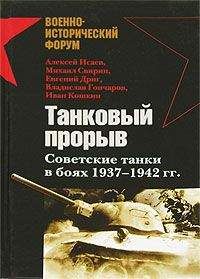Илья Дворкин - Взрыв
— Не знаю даже, что сказать... Спасибо вам, — тихо проговорила Таня. — Всем спасибо. Говорят, человек быстро забывает добро... Это не так. Мы будем помнить.
Капитан и Бабакулиев переглянулись, смущенно хмыкнули, стали прощаться.
— Вы, конечно, устали, — сказал капитан, — отдыхайте, поспите. А потом познакомим вас с людьми, покажем КПП, на вышку, сходим, поглядите на заграницу.
— А сейчас нельзя? — спросила Таня. — Мы совсем не устали. Правда, Никита?
Он кивнул. Какой уж тут сон!
— Можно и сейчас! Верно, Авез? — улыбнулся капитан.
— Конечно.
Солдаты были молоденькие. С высоты Никитиных двадцати четырех они казались ему совсем мальчишками.
Сразу всех запомнить было невозможно. Взгляд выделял только троих: кряжистого, почти квадратного старшину Приходько, красавца грузина Гиви Баркая и Ивана Федотова — маленького, конопатого паренька с ушами, пылающими, как пурпурные витражи. Иван, узнав, что Таня окончила художественную школу, обомлел, побледнел так, что веснушки сделались почти черными, и за все время так и не сказал ни одного слова, только не сводил с Тани восторженных глаз.
Никита тоже пользовался вниманием и успехом. Значок парашютиста произвел впечатление, потом разговорились, и, когда ребята узнали, что у него первый разряд по плаванию и самбо, Никита понял, что популярность его подскочила на невиданную высоту.
Капитан Чубатый был рачительный хозяин. Радостно потирая руки и хищно загибая пальцы, он прикидывал, как можно использовать новых поселенцев.
— Значит, так, — говорил он, — Татьяна Дмитриевна может рисовать учить, если кто захочет. Никита Константинович — английскому языку и самбо. Эх, жаль — плавать у нас негде!
Потом вчетвером пошли к границе. Подъем был довольно крутой, но дорога гладкая, накатанная. Никита внимательно следил за Таней.
Она оживленно болтала с Васей Чубатым и Авезом. Но вдруг замолчала, побледнела и остановилась.
Она вцепилась в Никитин рукав, удивленно взглянула на него.
— Ой, что это со мной? — прошептала она.
— Не пугайся. Это горы. Высота. Со мной тоже так было. Помнишь, я за цветами лазал? Я ведь тогда упал у родника. Голова закружилась. Ты не бойся, привыкнем.
— Точно! — сказал капитан. — Со всеми так. Теперь ничего не чувствуем. И вы через недельку не будете. Пойдем медленнее.
Таня передохнула, пошла дальше.
На железных воротах, перекрывающих дорогу, висел здоровенный амбарный замок.
— Граница на замке, — пошутил Никита, — а ключ где?
— А вот он. — И капитан вытащил из кармана ключ, похожий на старинный пистолет. — Карманы рвет, черт, тяжелый. Хоть под камешек прячь!
Таня расхохоталась:
— Под камешек? А если коварный враг пронюхает?
— Шпионы нынче прилетают на реактивных лайнерах с паспортом и визой в кармане, — грустно сказал капитан Чубатый. — Эх, опоздал я родиться! А времена Карацупы прошли.
— Зачем же вы здесь находитесь, если нарушителей нет? — спросила Таня.
— Нарушители, к сожалению, еще есть. Да только какой теперь нарушитель пошел! Горе, а не нарушитель. Ну, жулик какой или дурак, которому сладкой заграничной жизни захотелось, попытается на ту сторону уйти. Ну, с той стороны контрабандист попрется. Поймали тут одного, царские золотые монеты нес. Монеты уж больно новенькие, сдали на экспертизу, а они фальшивые. Жулик, мелочь пузатая. А чаще пастухи с отарой забредут, одна морока.
— Неужели ничего серьезного не бывает? — спросил Никита.
— Бывает, — ответил Чубатый, и глаза его сузились, стали злыми. — Для меня они хуже любого диверсанта...
— Кто?
— Есть такие деятели... Знаете, кто такие «терьякеши»?
— Нет, — Таня покачала головой.
— Наркоманы. Опиум курят, глотают. По-местному опиум называют терьяк. Носят его из-за кордона.
Капитан говорил с такой болью и ненавистью, что поневоле Никита и Таня ловили каждое его слово:
— Страшное это дело. Поначалу ничего, кроме радости, зелье это не приносит, — человек становится веселым, бодрым, ему кажется — горы может свернуть. Эйфория. А потом ему уже не хватает первоначальной дозы, надо больше, и больше, и больше... Я видел, что творится с терьякешем, если у него кончился опиум. Жалко и... противно глядеть. Лечат их, спасают, идиотов. Но пока мы намертво не прекратим доступ в страну этой мерзости — клиенты найдутся. Острые ощущения, запретный плод сладок, ..
— Много их, этих... терьякешей? — спросила Таня.
— Нет. Немного. Но встречаются. Так сказать, родимые пятна проклятого прошлого, — невесело усмехнулся Бабакулиев
— Да-а, — задумчиво протянул Никита, — белая смерть. Я с ней тоже встречался. Вернее, не с ней, а, выражаясь высоким стилем, с ее вестником. В январе в Ленинградском аэропорту задержали одного типа. Летел из Кабула. Направлялся в Копенгаген. Вез четыре килограмма опиума. Но тип этот оказался просто перевозчиком. Заплатили, купили билет, и лети. Он даже не знал, что везет. Вернулся бы, получил остальную сумму. Придумано неплохо: человек-посылка. При всем желании не может никого выдать. Как почтовый ящик.
Таня тихонько отошла от беседующих мужчин. Не хотела она слушать про все про это. Она присела на обломок скалы. Среди суровых, продутых ледяными ветрами, прокаленных неистовым солнцем гор хотелось думать и говорить о чем-то чистом и строгом, как сами эти горы.
Кто-то сказал, что архитектура — это застывшая музыка. То же самое можно сказать о горах. Только если, скажем, архитектура Ленинграда — это музыка светлая, щемяще-радостная, воздушная, Моцарт, то горы Копет-Дага отнюдь не классическая музыка, скорее абстрактная, с диссонансами, без мелодии и ритма, с резкими изломами-вскриками звука. И вот она, эта странная, непривычная музыка застыла, и получились горы. Таня глядела на взмывающие ввысь острые пики вершин, на головокружительно обрывающиеся пустоты-обрывы между ними, на рваный, зубчатый частокол скал вдали, и думала, что музыкант, чья музыка застыла в этих горах, был, наверное, немножко сумасшедшим.
Ей захотелось другой музыки. Захотелось Моцарта.
Таня закрыла глаза и очутилась в родном, до боли любимом городе. Увидела тот день, когда впервые шла на свидание с Никитой. День был очень морозный, мглистый. Она шла через Екатерининский сад, Катькин сад, как говорят ленинградцы, и смотрела на деревья. Они были обметаны пушистым кружевом. В воздухе тонко поблескивала ледяная алмазная пыль.
Темно-зеленая бронза великой императрицы была выбелена морозом. Екатерина гордо возвышалась над своей знаменитой командой, а на ее венценосной голове лихо, набекрень сидела шапка снега, придавая ей вид легкомысленный и разгульный. Что, впрочем, не противоречило солидным историческим источникам. Худенький Суворов ехидно улыбался. «Надоело ему, наверное, сидеть у ног этой тети, — думала Таня, — ему бы через Альпы!»
Она шла к одному из самых любимых своих зданий в городе — к Александринке, Пушкинскому театру. Справа тянулся массив Публичной библиотеки, и Таня думала, как приятно в такой морозный день сидеть в тишине читального зала, осторожно переворачивать страницы, стараясь не шуршать.
Это был особый день. И люди навстречу попадались одни только красивые. А у самого выхода из сада Таню ждал подарок — посреди дорожки сидел и смотрел на Таню человечьими глазами огромный сенбернар. Он был великолепен и величествен, его нельзя было назвать, скажем, «собаченька». С ним можно было говорить только на равных. И Таня уважительно сказала: «Здравствуй, красивая собака!» Сенбернар неторопливо и вежливо поклонился. И так же неторопливо и так же вежливо поклонился его хозяин — крупный седой старик с пушистыми, голубоватыми усами и чисто промытыми морщинами на темном, словно дубленном нездешними ветрами лице.
«Он, наверное, капитан самого дальнего плавания», — подумала Таня и вдруг рассмеялась. Она заметила, как поразительно похожи сенбернар и его хозяин. Статью своей, несуетливостью, торжественно-важной повадкой.
И старик, очевидно, понял ее, потому что усмехнулся в усы и положил руку в пушистой варежке на голову собаке.
«Он, наверное, одинок. И сенбернар самое близкое ему существо», — почему-то подумала Таня, и ей сделалось грустно. Но грусть ее была светла и мимолетна.
Это был особый день, чудесный день, единственный день.
Ее переполняла негромко звенящая радость и острое предчувствие счастья.
И тут появился Никита. И Таня внезапно поняла, чего еще ей не хватало в этот великолепный день, — солнца. А Никита шел ей навстречу и нес в руках кусочек солнца — огромный, нестерпимо оранжевый апельсин. И мгновенно смягчились голубовато-жесткие краски площади, колкая накипь инея на деревьях, черно-белая графика решетки сада на фоне снегов.
Никита шел навстречу, улыбался и подбрасывал в руке апельсин-солнце.
Таня очнулась, открыла глаза. Вокруг были торжественные горы, рядом стоял Никита и пристально глядел на нее.