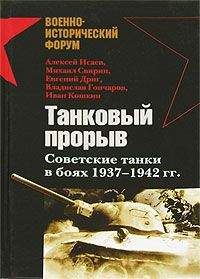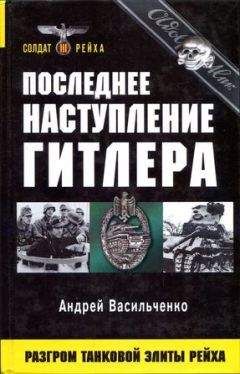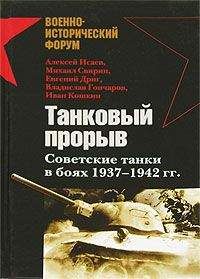Илья Дворкин - Взрыв
Никита снова приник к иллюминатору, разглядел спичечные коробки домиков, прямоугольники распаханных полей, узкую извилистую ленту реки.
Все было привычно и знакомо.
Он усмехнулся, вспомнив удивительные метаморфозы, происшедшие с ним и его товарищами в день первого прыжка с парашютом.
Возбужденный, горячечно болтающий Никита, только что переживший ужас падения в пустоту, в никуда, а потом все блаженство плавного спуска, когда вокруг неслыханная прежде тишина и хочется орать, петь, дурачиться, увидел вдруг трех своих товарищей, понуро выходящих из приземлившейся «аннушки», таких несчастных, потерянных, что при взгляде на них защемило сердце.
И Никита, и остальные счастливчики опустили головы. Особенно жалок был Витька Норейко — здоровенный парень, борец, весельчак, заводила.
В тот день будто незримая черта разделила их — большинство, которое сумело преодолеть себя, свой страх, и нескольких неудачников — ошеломленных, испуганных яростным сопротивлением своего такого привычного, такого, казалось, знакомого до той поры тела, впервые обнаруживших, что в них живет слепой, свинцовый страх перед высотой.
Еще накануне вечером, последним перед прыжком, когда большинство ребят притихло, прислушиваясь к себе, мучительно боясь неведомого завтра, Витька ходил по казарме гоголем, похохатывал, хлопал увесистой лапищей по плечам.
— Трясетесь, бобики?! — грохотал он. — Что же с вами завтра будет?
Старшина Касимов, маленький, плотный, как литой мяч, скользнул узкими глазами по Витьке, по ребятам, толпящимся в курилке, и тихо сказал:
— Не бойся, Норейко. Не надо бояться.
— Кто?! Я боюсь?! — вскинулся Витька.
Касимов кивнул:
— Все боятся, лучше молча бойся. Чтоб потом стыдно не было.
Старшина ушел, а Витька длинно и точно плюнул в ящик с песком, презрительно дернул плечом:
— «Молча бойся»! Ишь воспитатель горных орлов!
На миг Никита поймал его взгляд и увидел застывшую в глазах тоску.
Но Витька тут же подмигнул, улыбнулся лихо и прошел мимо — высокий, статный и красивый.
И вот теперь, когда Норейко неуклюже, осторожно выбирался из самолета, Никита его не узнал: это был другой человек, незнакомый, враз постаревший, с бессмысленными, стеклянными глазами.
В конце концов двое из трех сумели победить свой страх, а Витька не сумел.
Четыре раза поднимался он в воздух. Сам чуть не плача умолял об этом, и всякий раз, когда распахивался люк, непреодолимая сила заставляла его цепляться за скамейки, за стойки, за выпускающего.
В конце концов он раскрыл парашют в самолете.
Норейко списали из воздушно-десантных войск.
Никита помнил, как рыдал Витька, забившись в угол казармы, — могучий парень с дерзкими, бесстрашными на земле глазами.
А потом за четыре месяца до окончания службы с Никитой случилась беда.
Во время ночного прыжка ветер отнес его на горелый лес. Острый как пика сук пропорол ему бок, проткнул плевру и правое легкое.
Спасло его то, что он сразу потерял сознание и не пытался освободиться. Врачи говорили, что в этом случае сук сыграл роль пробки и кровопотеря была минимальной.
Затем шесть месяцев госпиталя, операция...
Никита выкарабкался. И вспоминать об этом периоде своей жизни не любил.
Он выжил, уехал домой в Ленинград, но со спортом было покончено. Никита приходил в бассейн побарахтаться.
Порой помогал Анатолию Ивановичу возиться с его очередной ребятней — четырнадцати-пятнадцатилетними парнями, живым воплощением пресловутой акселерации — здоровенными, высокими. Возраст выдавали только ребячьи наивные физиономии.
Там он и познакомился с Татьяной.
Подошла к нему тоненькая, затянутая в черный купальник девчонка — прутик прутиком, дотронулась пальцем до бугристого шрама, серпом перехватывающего грудь, и спросила испуганно и участливо:
— Где это вас так?
Никита взглянул на нее с усмешкой: она показалась ему совсем зеленой девчонкой.
— Русско-турецкую войну помните? — спросил Никита.
— Русско-турецкую? — удивилась девчонка. — Что за шутки?
— Какие уж тут шутки. — Лицо Никиты стало сурово-значительным. — Ятаганами изрубили. Они кривые, ятаганы. Но я дорого продал свою жизнь.
— Бедные турки!
Девчонка покачала головой, а Никита внимательно оглядел ее, увидел длинные ноги, чуть-чуть придавленную тканью купальника грудь, высокую шею, огромные глазищи и понял, что разговаривает со взрослой девушкой.
Никита на мгновение смутился, но тон был уже взят вполне определенный.
— Да-а, жуткая была рубка, — мрачно сказал он, — не могу вспомнить без содрогания. Лязг, грохот, а головы так и катятся, так и катятся.
— Рукой махну — сразу улочки, другой махну — переулочки! Это про вас? — спросила наивным голосом девушка.
— Ну вот! Соратники уже раззвонили! Совершенно невозможно оставаться скромным, незаметным человеком.
— Да, да... — Девушка печально покачала головой. — Я вас понимаю... Трудно быть национальным героем... Но чем же все кончилось?
— А дальше было так: только взмахнул рукой, чтобы, как вы понимаете, проложить очередной переулочек, вдруг слышу хруст, треск, потом темнота... и потом гляжу, а он уже неживой.
— Кто? — удивилась девушка.
— Я, — сказал Никита.
Девушка секунду растерянно смотрела на него и вдруг расхохоталась так, что ей пришлось присесть на бортик бассейна.
— Человека убили, а вам смешно.
— Да, — сказала девушка, — вы фантастические романы не пробовали писать?
— Нет, — сказал Никита.
— А зря. Большой талант пропадает.
— Может быть, вы представитесь юному дарованию? Меня зовут Никитой, а вас?
— Таней. — Она встала на бортик, поглядела через плечо на Никиту. — А вам больше подошло бы имя Станислав.
— Почему? — удивился Никита.
— Так зовут моего любимого писателя-фантаста. Станислав Лем. — Она сильно оттолкнулась и отвесно, почти без брызг вошла в воду.
Никита видел, как она, красиво вытянув руки, работая одними ногами, идет под водой. Волосы — темный полупрозрачный поток.
Он догнал ее у трапа. Таня собиралась выходить из воды.
— А вы не хотите немножко расширить круг любимых авторов? — спросил Никита.
Таня внимательно и серьезно поглядела на него, и Никите сделалось неловко.
— Нет. — сказала Таня. — Не хочется.
И ушла.
А Никита бешеным кролем промчался из конца в конец бассейна и остановился, задохнувшись от непривычной скорости.
— Ну что, брат, высекли тебя? — громко сказал он. — И правильно сделали.
Никита так резко повернулся в кресле, что разбудил соседа — меднолицего сурового старика туркмена.
— Извините, бабай, — пробормотал Никита и закрыл глаза.
Стоило ему увидеть ту, далекую Таню первого дня их знакомства, и все снова и снова, как склеенный в кольцо киноролик, начинали прокручиваться события последнего времени.
А лететь еще предстояло восемь часов.
Все, что происходило после знакомства с Татьяной: работа в «Интуристе» (Никита окончил английскую школу, ленинградскую школу № 207, что во дворе кинотеатра «Колизей»), учеба на английском отделении филфака в университете, приглашения на работу в таможне, курсы, практика в таможне аэропорта — все это казалось Никите всего лишь бледным фоном жизни. А центром, точкой, на которой замыкалось все существование его, была она.
Они сняли комнату у вздорной, суетливой старушонки, которая в любой миг могла постучаться и с неосознанным старческим садизмом просидеть целый ветер, разматывая нескончаемый клубок сплетен о каких-то других старухах, прихлебывая чай, который стал уже ежевечерней постылой традицией.
— Ну вот что, — сказал однажды Никита, — ни у тебя, ни у меня мы жить не можем. И ждать по меньшей мере год, а то и больше, пока мне дадут квартиру, тоже не можем. Мне предлагают работу недалеко от Алиабада, в горах, на границе. Все говорят — дыра жуткая. Маленький КПП, а в таможне двое — я и мой помощник. Но живут же там люди! Ты согласна?
— Да, — твердо ответила Таня. — Да! Я согласна куда угодно. Я хочу, чтоб у нас был свой дом. Хочу родить тебе дочку и сына. Я согласна.
Перевод с вечернего на заочное отделение, оформление документов, сборы — все заняло две недели, две суматошные, радостные, заполненные беготней недели.
Громада Копет-Дага, стеной уходящая в небо, мрачная, безлесая, бескрайняя, поражала.
От центра города до заставы — пятнадцать минут езды на автомобиле.
Проверили документы, поднялся шлагбаум, открылись ворота, и юркий газик пошел петлять по серпантинам пограничной зоны.
Дорога была не для слабонервных — крутые петли, карнизы, обрывы, — газик поднимался все выше; а горы — основной массив — и не думали приближаться.
Таня сидела притихшая, чуточку испуганная, подавленная дикой мощью гор, в которых она никогда прежде не бывала.
Дорога стала еще круче и красивее. Шофер-пограничник, белобрысый такой мальчишка, с носом красным и облупленным под непривычным солнцем, как молодая картофелина, сидел, небрежно вывалив в окошко локоть, правил одной рукой. Он так резко брал повороты, что камешки звонко выщелкивало из-под колес, а газик заносило к самому краю дороги, за которой начинался отвесный обрыв глубиной во многие десятки, если не в сотни метров. Но физиономия у шофера была такая равнодушная, сонная даже, что Никита не решился сделать ему замечание, хоть и видел, что Таня боится уже всерьез.