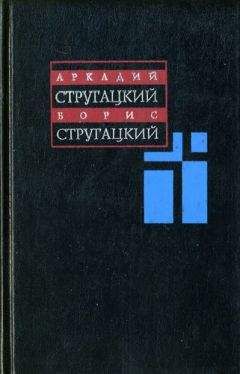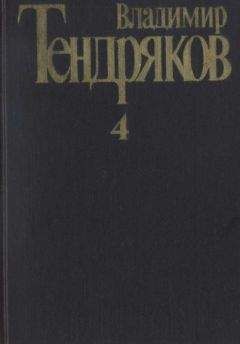Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Т. 2.Тугой узел. За бегущим днем
Старые мои знакомые! Первые из знакомых, кого встретил я в Москве!
Я долго сидел на чемодане, отдыхал, жадно глядел.
Огромная площадь. Безлюдье. Прочно вросший в асфальт каменный постамент. На нем — неистово ринувшиеся вперед два гиганта. Их освещает заходящее солнце. Густыми красными отблесками сверкает измятая сталь. Рвутся с каменного постамента великаны, не могут сорваться.
Огромная пустынная площадь, тревожно освещенные великаны — и я, несоразмерно маленький, затерявшийся, беспомощный, жалкий на своем чемодане.
Институт, в который я должен поступить, где-то здесь, близко, я сижу у его подступов. Вот как выглядит дверь в мое будущее — то будущее, что не давало покойно жить, выгнало из дому.
Хватит ли сил, энергии, таланта, не потеряюсь ли я среди того бесконечно обширного, что ждет меня впереди? Страшно, замирает сердце! Но в то же время поднимается с самого дна души отчаянная радость: вот в какой мир вступаю! Пусть он велик, кажется недоступным, но «не боги горшки обжигают». Кто знает, на что способны мои руки, не поставят ли они на восхищение людям вот такие памятники!..
Я попал в институт, когда совсем стемнело. Вахтерша, словно деревенская бабушка на завалинке, вязала у дверей шерстяной носок. Она недовольно оборвала свое занятие:
— Дня вам мало!
С ее далеко не радушного позволения я улегся в темном углу институтского коридора на деревянном диванчике, положив чемодан под голову.
Я закрыл глаза, и передо мной снова поплыли улицы незнакомого города, человеческие лица, поодиночке, попарно, десятками, женские, мужские, молодые, старые лица с разными характерами, молчаливые, отчужденные.
В огромном, незнакомом мне полутемном здании было так тихо, как бывает тихо в ночные часы в опустевших учреждениях. Лишь где-то за дверями время от времени глухо гудела вода в водопроводном кране.
И мне представился спящий безбрежный город, спящие в нем, этаж над этажом, люди — тысячи, миллионы тех, кого я видел днем, и тех, кого я никогда не видел и никогда не увижу в своей жизни. Спит город, принявший меня без особого гостеприимства.
Спят люди и не подозревают, что в их миллионной семье появился еще один человек. Он лежит сейчас в углу на твердом диване. Никому не известно, какое великое желание привез он с собой в душе.
Мое единственное богатство — моя жизнь, те дни, годы, десятилетия, которые отмерены для меня. Я хочу отдать это вам, люди, незнакомые мне, вам, для вашей пользы, для вашего счастья. Никому не расскажешь об этом желании, а если расскажешь, никого не удивишь: мало ли таких, как я, предлагающих в услугу людям свое будущее? Надо просто уснуть вместе со всеми, дождаться нового дня. Дня, обещающего начало будущего.
Я не успел заснуть, как от дверей снова донесся голос вахтерши:
— Господи боже, еще один полуночник!
Минут через пять возле меня появился невысокий, крупноголовый, при погонах и портупее офицер.
— Э-э, да тут ночлежка в полной форме. Принимайте в компанию.
Он уверенно снял через голову планшетку, небрежно бросил ее на соседний диванчик.
— На какой факультет? — спросил он.
— На художественный. А вы?
— На режиссерский буду пытаться. Давайте знакомиться. Юрий Стремянник.
5На окраине станции Лосиноостровская стоит небольшой двухэтажный особнячок. Широкие, санаторного типа окна, сравнительно небольшая вместимость, дачное место — все это выдавало, что его строили как дом отдыха средней руки, а вовсе не общежитие для студентов.
Если постоять в стороне, прислушаться, то казалось — за стенами дома прячется галочий базар: растрепанный, напористый шум голосов доносился из него.
Солдаты и офицеры, недавно снявшие погоны, тихие девушки из провинции, увешанные фотоаппаратами юнцы, сосредоточенные, рабочего вида парни, громогласные студенты, покинувшие другие институты ради святого искусства кино… Озабоченность и беспечность, растерянность и упрямая надежда, наивность и нарочитая многоопытность, доходящая порой до цинизма, и всех объединяет одно: надежда на единое будущее. У всех одна цель, одна страсть — попасть в институт.
Приемные экзамены еще не начались, будущие студенты до поры до времени предоставлены самим себе. Единственное занятие — спор. В крошечных комнатах, плотно забитых койками, в табачном дыму проходили яростные сражения.
В той комнате, куда попал я, выделились два матерых бойца, перед энергией которых стушевались все остальные.
Первый — Григорий Зобач. Он тоже собирался поступать на художественный факультет, но, не в пример мне, был уже стреляный воробей, много лет работал художником-декоратором в одном из областных театров. Он всех старше в комнате, ему за тридцать, возраст несколько перезрелый для кандидата в студенты первого курса. На голове жиденько курчавится рыжеватый, словно подпаленный, пушок — признак былых кудрей, безвозвратно уступающих место лысине. Лицо грубоватое, губастое, со светлыми беспокойными глазками и плоским лбом. Голос у него был до неприличия мальчишеский, звонкий и запальчивый, взгляды же — умудренного жизнью скептика. Он считал: искусство — в первую очередь передача ощущений; самые большие рутинеры в искусстве — реалисты; они подменяют собственные ощущения неверной копировкой натуры, а следовательно, долой реализм, да здравствует новое искусство субъективных восприятий!
Против него выступал Юрий Стремянник. Этот младший лейтенант был старше меня всего на год, но держал себя куда солиднее Зобача. С лобастой головой на короткой шее, с выпуклой грудью, невысокий, кряжистый, он никогда не поднимал голос до крика, слушая, таил на-смешку в глазах, но если начинал говорить, то говорил так напористо, что Зобач, постоянно порывавшийся его оборвать, только беззвучно, как рыба, хватал воздух ртом и не мог вставить ни слова.
Я ровным счетом ничего не понимал в спорах, хотя слушал с религиозным обожанием, мучился тайком: «Как мало знаю! Как глуп по сравнению с теми, кто на днях будет оспаривать у меня место в институте!»
Обычно с наступлением вечера споры прекращались. Из дачных домиков тянуло запахами душистого табака и пресным травянистым настоем, напоминавшим, что сейчас уже разгар августа, что впереди осень, близится увядание. Свежий ветерок врывался в открытые окна нашей комнаты, затянутой после словесных битв табачным дымом. Даже долговязый кандидат в сценаристы, в течение всего дня валявшийся на смятой койке, спрятав нос в книгу и выставив на обозрение внушительные ступни в драных носках, выползал на волю.
Белые девичьи кофточки смутно проступают в темноте. Девичьи голоса негромко поют. Как поют! Здесь собрались не случайные люди, а завтрашние артисты.
Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари…
Нежные, счастливо тоскующие от избытка молодости голоса сливаются в одно ощущение со свежестью гладящего по лицу ветерка, с влажными запахами.
Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог…
Казалось, что может быть проще — откинь на время грызущие тебя заботы. Иди сядь рядом, почувствуй возле себя девичье плечо, подтяни, если даже нет у тебя голоса. Этого требует молодость, этого требует вечер, этого требует счастливая минута, выпавшая тебе в жизни. Слышишь, песня тебя зовет!
Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет…
Но я оставался в стороне. Я сурово приказывал себе: не время наслаждаться, начинается борьба за будущее, главное — попасть в институт, все остальное возьму потом.
Вечное упование на потом. В таких случаях не приходит в голову мысль, что потом часто не сбывается.
6Начались вступительные экзамены.
На помост посреди аудитории помогли подняться дряхлой старушке. Она, как курица в жаркий день на пыльную обочину, долго и озабоченно усаживалась на шатком стуле. Уселась, сложила на подоле юбки сухонькие темные руки, уставилась в пространство бездумным взглядом и замерла — покорная, заранее обрекшая себя на длительную неподвижность, всем своим видом доверчиво говорившая: «Берите меня, добрые люди, какая есть…»
С разных концов аудитории из-за широких досок на подставках, из-за мольбертов жадно, тревожно, с деловитой беззастенчивостью впились в ее лицо десятки пар глаз. Среди них такие же жадные и такие же, как у всех, тревожные мои глаза, ощупывающие каждую морщинку.
Широко расставленные крутые скулы, обтянутые дряблой кожей, мясистый снизу нос, переходящий в плоскую расплывчатую переносицу, мелкосборчатый, запавший рот — вот он, экзамен, вот первая ступенька к будущему. Это самое заурядное из заурядных старушечье лицо мой карандаш обязан перенести на лист плотной бумаги.
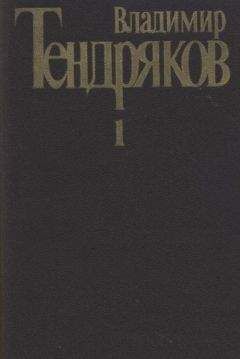

![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/134063/134063.jpg)