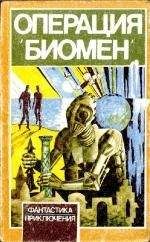Иван Свистунов - Жить и помнить
Шагах в двадцати от дороги, со всех сторон окруженный пшеницей, стоял танк. Размозженный орудийный ствол тяжело опустился к земле. Перебитые гусеницы, свороченная набок башня.
— Наш, «тридцатьчетверка», — сразу определил Очерет. — Досталось ему, бедолаге, — сокрушался он, обходя машину. — А зирки на башне ще видать.
Действительно, на изувеченной броне танка сквозь ржавчину пробивались пять небольших пятиконечных звездочек. Под ними белыми четкими буквами была сделана надпись:
«Здесь советские танкисты вели бой с гитлеровскими захватчиками за освобождение нашей деревни. Слава нашим братьям-освободителям!
Жители деревни Велика Гура».— Заслуженная машина, — проговорил Курбатов, а сам все смотрел на башню танка. Только теперь Очерет заметил, что там в небольшой простенькой вазе стоит букет живых цветов. Полевые застенчивые, совсем русские васильки, коронки ромашек, строгий синеватый чебрец.
— Чудасия, товарищ майор! Видкыля воны взялись? — с недоумением разглядывал Петр Очерет неожиданную находку. Приподнявшись на носки, выдернул из букета одну ромашку. Во влажной ее чашечке неуклюже переваливалась с боку на бок пчела. Потом она поднялась в воздух и, сделав круг над танком, словно хотела увидеть его сразу весь, утонула в дрожащем разогретом воздухе.
— Недавно тут квиты поставылы, — заключил Петр, протягивая офицеру ромашку.
Курбатов развернул планшет.
— Пять километров до ближайшего села, — и посмотрел на старшину. Очерет сразу не понял мысль офицера, но и по тону почувствовал что-то значительное в его словах. — Часто сюда поляки ходят, — добавил Курбатов и направился к машине.
Километра три дорога шла по пшеничному полю, потом машина выехала на пригорок; Внизу причудливыми изгибами блестела река, за новым мостом в зелени садов светилось село. Сквозь листву пробивался яркий жар черепицы.
— Добром вспоминають наших хлопят поляки, — после долгого молчания заметил Петр, спуская машину к реке. — Чувствують!
— И за все благодарят, — Курбатов широким жестом показал на пшеничное, уходящее к горизонту поле, на луга в радуге цветов, на село, просторно раскинувшееся за рекой.
Машина уже подъезжала к мосту, когда им повстречались две польки в нарядных платьях. Они шли через мост с букетами полевых цветов. Платья полек были в ярких розовых цветах, и издали казалось, что на мосту четыре букета: два больших и два маленьких.
— День добрый, пани! — крикнул Очерет и обернулся к Курбатову: — Може, воны до нашего танка з квитамы идуть?
Машина пронеслась по мосту и вырвалась на шоссе. Асфальтированная лента бросалась под колеса, и воздух выл у бокового раскрытого окна. Курбатов оглянулся. Польки стояли на пригорке. Платья цвели на солнце. Одна, та, что была повыше ростом, помахала им рукой.
Машина мчалась по шоссе. Мотор легко и ровно шумел, видно, радовался и встречному ветру, и небесной голубизне, отсвечивающей в раскатанном асфальте, и солнечному миру, открытому настежь.
Курбатов смотрел вперед, машинально теребя в руке простую, полевую, белую с золотом ромашку…
— Польский народ добро помнит! — закончил свой рассказ Очерет. — Не один раз я в том убеждався. Побратались мы на войни, а боева дружба — найкрипчайша.
— Когда раньше, дома, я думала о Польше, то знала, что это дружественная нам страна. А теперь, — и Екатерина Михайловна на миг представила себе всех людей, с кем встречалась в эти дни, все, что видела здесь, — теперь я сердцем почувствовала, как близки нам польский народ и польская земля. А для меня… — и не договорила.
Но Петр Очерет и так все понял.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1. Пропаганда
Где тишина, о которой он мечтал? Где мирная, спокойная жизнь, что снилась ему в годы странствий? Политика была в газетах, в книгах, в разговорах на улицах, даже в их доме. Политика, от которой он хотел уйти, спрятаться, забыться.
Часами ходил Ян по комнате.
Как просто было на войне! Перед тобой враг — и ты знал, что делать. Кто теперь враг? Русская женщина Екатерина Михайловна? Шахтер Петр Очерет? Отец?
Заметив как-то на себе тревожный недоумевающий взгляд Элеоноры, Ян улыбнулся:
— Помню, в детстве я бегал в сад к старому тополю и рассказывал ему о всех своих горестях и радостях. Тополь сочувственно шумел листвой. А теперь куда побежишь?
— Мне больно, когда я смотрю на тебя. Не знаю, как помочь. Мне так хочется, чтобы ты был спокойным и счастливым.
— Не обращай на меня внимания. Пройдет. Мне хорошо с тобой, и я верю: в нашей жизни еще будет радость. Я так люблю тебя! Твои глаза, волосы, руки, твой голос — И попросил: — Спой еще раз ту песню. Помнишь, нам тогда помешал Юзек?
— Опять ты расстроишься.
— Не беда.
— Может быть, не надо, милый?
— Пой, пой! Не думай, что я даже песен ваших боюсь.
— Тогда садись ближе. — И пальцы Элеоноры опустились на клавиши.
Но горит восток святой зарею,
Светит людям ясный русский свет,
Как призыв к спасению и бою,
Как зарок: врагу пощады нет!
Чтобы мир цветущим сделать садом
И войны навек развеять мрак,
Мы шагали в бой смертельный рядом,
Словно братья, русский и поляк.
В песне Элеоноры тоже была политика. Но почему она будоражит сердце, в чем-то обвиняет, требует ответа и решений? Повторил, на слух проверяя, как в его устах прозвучат такие слова:
— Словно братья, русский и поляк!
Слова как слова! Как в газетах и в радиопередачах. Только музыка и голос Элеоноры делают их значительными. Снова, как за броневой плитой, спрятался за привычным:
— Пропаганда!
Элеонора сказала голосом, в котором был упрек, даже раздражение:
— Ты не прав. Песня, которую поет и любит народ, — сама жизнь.
Милая Элеонора! Какие слова она теперь знает! Какие чувства в ее сердце, где раньше была только любовь! Ян привлек к себе невесту.
— Хватит, хватит! Мы любим друг друга, и нам нет дела до того, что творится в сумасшедшем мире. Мы никого не трогаем и никому не мешаем. Давай навсегда забудем такое паскудное слово — «политика». Навсегда! Согласна?
Элеонора молчала. Когда она чувствовала на своих плечах теплоту рук Яна, когда его губы, блуждая по лицу, находили ее губы, она не могла ни о чем думать, возражать, спорить. Но даже и в эти минуты знала: камнем лежит в ее сердце то, что разделяет их с Янеком, то, с чем она не согласна и никогда не согласится. Ян был ее мечтой и надеждой, всем. Но за минувшие годы она слишком много видела и узнала. Он должен открыть глаза. Иначе… Что иначе? Она прижалась к груди Яна:
— Ты верь мне!
— Станислав приехал!
Ванда вбежала в комнату и закричала, будто все оглохли:
— Что вы целуетесь? Станислав, приехал!
Братья не виделись много лет, и теперь стояли друг против друга — рослые, солидные мужчины, сероглазые, белесые. Обнялись крепко, по-мужски, по-братски!
— Вот ты какой! — Станислав слегка отступил, чтобы лучше рассмотреть брата. — Молодец, что вернулся.
— Долго собирался.
— Верно, затянул. Откровенно говоря, я боялся, как бы тебя в Канаду не упекли.
— Предлагали. Не поехал. Сказал, что только в Польшу.
— Правильно!
Станислав не был дома два месяца и теперь, по своему обыкновению, засыпал всех вопросами: «Как дела на шахте? Освоили ли новое оборудование? Как встретили донецких шахтеров?»
Феликс и Ванда едва успевали отвечать.
— Ты на шахте еще не был? — обернулся Станислав к брату.
— Завтра советские шахтеры будут у нас работать. Мы и пойдем, — ответил отец. — Пусть собственными глазами посмотрит.
— Не только посмотрит. У нас теперь нет зрителей. Все в строю, — и, словно только сейчас заметил на брате английскую военную форму, поморщился: — Сбрасывай поскорей.
— Вот-вот, — подхватил Юзек. — Противно на нее смотреть. Лагерь напоминает. У меня есть знакомый портной, он тебе, Янек, за три дня великолепный костюм сошьет. Прима. Отличный мастер.
Станислав уже теребил Ванду:
— Ты все прыгаешь, стрекоза. Как работаешь? Как с Союзом социалистической молодежи?
— Приняли!
— Второй подарок сегодня для меня. Дай руку, товарищ Ванда! Поздравляю!
Довольный Феликс заметил:
— Дембовские никогда сзади не были. Шахтерская закваска!
Ян смотрел на отца, на Станислава, на Ванду, слушал разговоры, и ему казалось, что он чужой в своей семье, чем-то отгорожен от их радостей, интересов. Может, и вправду тому виной чужая, нелюбимая ими форма?
Станислав заметил растерянность на лице брата:


![Вера Кауи - Любить и помнить [Демоны прошлого]](/uploads/posts/books/9379/9379.jpg)