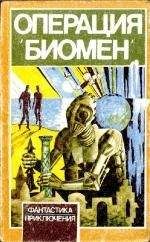Иван Свистунов - Жить и помнить
— Вы знаете Мицкевича? — Вид у Яна растерянный, почти напуганный.
— Знаю и люблю. Вас удивляет? Мицкевич был другом декабристов, другом нашего Пушкина. Пушкин писал, что они вместе мечтали о временах грядущих. Мечтали о тех днях, когда народы наши, распри позабыв, в великую семью соединятся. Вы слышали когда-нибудь об этом? У нас это знают все школьники. Мы ценим дружбу наших народов, считаем вас своими братьями.
Ян Дембовский верил и не верил. Неужели сто двадцать или сто тридцать лет назад русский поэт мог написать слова, звучащие сейчас, как коммунистическая агитация?
— Может быть, и это советская пропаганда, большевистская демагогия? — глаза Екатерины Михайловны смеялись. — Нет, Ян, настало время, о котором мечтали и наш Пушкин и ваш Мицкевич. Наши народы — одна братская семья. Это не пропаганда. Жизнь!
— Странные вы люди — русские. Говорят, у вас загадочная душа.
— Старые сказки. В русской душе нет загадки. Русскую душу теперь хорошо знают ив Праге, и в Будапеште, и в Софии, да и во всем мире. Русские борются за счастье всех народов.
— Борьба! Борьба! Все минувшие годы я жил среди войны, крови, политики. Хватит! Хочу, чтобы над моим домом было мирное небо.
— Этого хотят миллионы людей во всем мире.
Ян снова подошел к окну. Мирный город лежал перед ним: шпиль костела четко чернел на фоне светлого неба, облачко пара висело над шахтной котельной, дубы на горе стояли невозмутимо и вечно. Мир и покой. Резко обернулся:
— Как поступили бы вы, поняв, что верили в то, во что не следовало верить, шли по пути, по которому не надо было идти? Не день, не месяц, а годы. Долгие годы!
— Ответ может быть только один: рвать с прошлым. Так хирург отсекает омертвевшую ткань, чтобы жил человек. Надо освободиться от груза прошлого, от всего, что мешает идти вперед, смотреть вперед.
— Знаете ли вы, Екатерина Михайловна, сколько черной краски расходуется ежедневно за рубежом на изображение советского человека? Заодно чернят и новую Польшу. И мы верили!
— А теперь?
— Когда я в первый раз после возвращения домой вышел на Краковскую улицу, то узнал, что ей присвоено имя майора Курбатова. Спросил первого попавшегося прохожего: кто такой Курбатов, поляк ли он? Прохожий — старый горняк — сказал: «Я не знаю, поляк ли Курбатов, но дай бог нашей земле побольше таких сынов». Его ответ не идет у меня из головы.
Екатерине Михайловне хотелось сказать Яну, что ее муж желал добра всем простым людям, что за их счастье отдал он жизнь. Но подумала: пусть услышит об этом от других — будет лучше.
Дембовский проговорил в раздумье:
— Надо только знать, кто друг, а кто враг.
— Да уж это надо знать твердо! И вы скоро поймете. Если у вас сердце поляка, если вы любите свою землю, у вас не будет сомнений. Вы найдете свое место в новом мире.
В дверь просунулась усатая физиономия Петра Очерета.
— Все о жизни балакаете?
Екатерина Михайловна обернулась к Яну:
— Вот поговорите с товарищем Очеретом. Он человек бывалый, жизнь знает.
— Шо про жизнь говорить! — ввалился в комнату Очерет, заполнив всю ее густым басом и ста десятью килограммами веса. — Жизнь делать надо. Каждый сам свое счастье в руках держит.
Яну нравился Очерет. Нравился ростом, усами, басом. Нравился тем, что был шахтером, любил свою профессию, гордился ею. В семье потомственных польских шахтеров он — пусть русский, пусть советский — был своим человеком. Но поспорить хотелось.
— Вы говорите, каждый свое счастье в руках держит. А судьба? Или русские не верят в судьбу?
Очерет крякнул:
— Судьба вона не авоська. Одын раз судьба, другый раз судьба, а своя-то голова должна на плечах буты?
— Скажите откровенно, пан Петр: вы коммунист? Я где-то читал, что вас всех в специальных школах обучают.
Пришлось Петру Очерету крякнуть еще раз, да покрепче: разговор наклевывался серьезный. Чувствуя себя полномочным представителем если не всего Советского Союза, то, во всяком случае, горняцкого сословия, заговорил мерно гудящим басом:
— Коммунист я. Не отрекаюсь. И в школи меня обучали. Богато у меня школ в житти було! Пид Москвою — одна, в Сухиничах — друга, на Днепри — третья. В Варшави учився, на Балтике та на Одере и Нейсе наукою овладевав. Такой наукой горжусь! Она не одному миллиону людей життя сберегла и счастье повернула. И тэпэр мир охраняе!
Дембовскому показалось, что в басовых перекатах Очерета звучат гневные нотки.
— Вы не сердитесь, Петр. Я не хотел вас обидеть. Я тоже солдат. Мы на разных фронтах воевали, но за одно дело.
— Шо правильно, то правильно. — Благожелательное добродушие снова овладело физиономией русского. — И тэпэр нам одын за одного держаться треба.
6. Живые цветы
Никогда не предполагал гвардии старшина запаса Петр Очерет, что его так разволнует поездка в Польшу! Названия польских городов и рек, польские имена и польская речь, польские черешнями и яблонями обсаженные дороги, польские сумрачные костелы и веселая черепица сел и хуторов — все-все на каждом шагу, каждую минуту напоминало о прошлом.
Вспоминались то один, то другой эпизоды военных лет и первого мирного года, когда еще жив был Сергей Николаевич Курбатов и он служил под его началом. Были истории веселые и печальные, многозначительные и так себе, пустячки, а все же и они остались в памяти.
— Не забулы нас полякы, добрым словом помятають, — поделился он как-то своими думами с Екатериной Михайловной. — Я на одном факти ще в сорок пятом году в их щиром до нас сердци убедывся.
— На каком факте?
— Була одна история, — начал Очерет и откашлялся — первый признак, что готовится к длинному повествованию. — Вроде и пустяк, а смысл значный имеет.
…Произошла эта история в первое послевоенное лето. Голубоватое асфальтированное шоссе плавным полукругом уходило на запад. Гвардии старшина Петр Очерет остановил машину, посмотрел на майора. Брови его поднялись, морщиня массивный, темный от походных и погодных перипетий лоб.
Курбатов, развернув на коленях планшет, водил пальцем по целлулоиду, под которым подложена на нужном квадрате раскрытая карта.
— Так-с! — вслух размышлял майор. — Если здесь свернуть и по проселку напрямик, то, пожалуй… — Он пожевал нижнюю, чуть оттопыренную губу, словно это могло помочь найти правильное решение.
— У нас кажуть: хто ходе напростец, той дома не ночуе, — вставил свое слово Очерет и слегка тронул кнопку сигнала. Машина глухо рявкнула, соглашаясь с замечанием водителя.
— Как раз по той дороге и доберемся к вечеру. Километров на семьдесят ближе будет, — возразил Курбатов и еще раз провел пальцем по намеченному маршруту.
— А мост там есть? — уже деловым тоном осведомился Очерет, через плечо офицера всматриваясь в карту. — Ричка велыка!
— Должен быть. Сворачивай! — Курбатов решительным движением захлопнул планшет.
Осторожно пробуя передними скатами новую дорогу, «оппель-капитан» съехал с шоссе. Узенький проселок зарос подорожником, кашкой, лебедой. По сторонам в гвардейском строю дозревала пшеница. Она так близко подступила к дорожной колее, что тяжелые колосья били по ветровому стеклу автомобиля и что-то торопливо и невнятно шептали ему вслед. Закрой глаза — и покажется, что шумит теплый ливень, неожиданно хлынувший среди истомленного зноем июльского полдня.
— Добрый хлиб, як у нас на Украини, — заметил Очерет, медленно ведя машину среди живого золота колосьев. Видно было, что ему приятно слышать взволнованный шум колосьев, дышать молочной теплотой наливающегося зерна. — Я ж наполовину шахтар, а наполовину хлибороб. Кожне лито шахта на уборку посылала. На комбайни, как на коне, ездил, — улыбнулся своим воспоминаниям Очерет, переносившим его за тысячу верст от польской земли, в Большую Лепетиху, к колхозному полю на берегу Днепра. Там сейчас также колосится пшеница, тают жаворонки в синеве и днепровский ветер доносит шум моторов: комбайны готовятся к выходу в поле. Охваченный воспоминаниями, Очерет положил на баранку автомобиля руки, так изогнув в локтях, как клал когда-то на штурвал комбайна.
— Что там? — прервал Курбатов мечтания гвардии старшины и показал рукой в сторону, где сквозь путаницу пшеничных стеблей виднелась неподвижная черная масса.
Петр Очерет затормозил. Курбатов вышел из машины и едва приметной межой направился в глубь поля. Он шел, как пловец, разгребая руками пшеницу, и потревоженные стебли неодобрительно покачивали колосьями за его спиной. Очерет заглушил мотор и догнал майора.
Шагах в двадцати от дороги, со всех сторон окруженный пшеницей, стоял танк. Размозженный орудийный ствол тяжело опустился к земле. Перебитые гусеницы, свороченная набок башня.


![Вера Кауи - Любить и помнить [Демоны прошлого]](/uploads/posts/books/9379/9379.jpg)