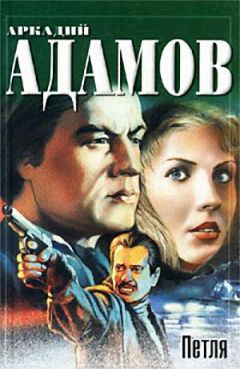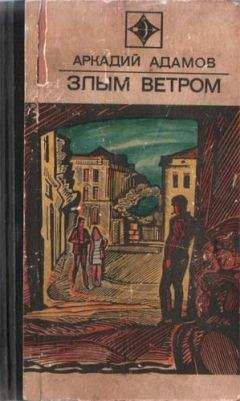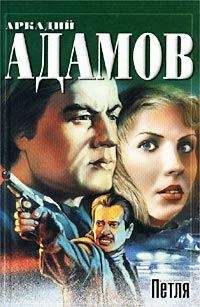Анатолий Жуков - Дом для внука
— Не кое-чего — многого добились. И добивались любыми методами, не считаясь ни с чем. Но, Сергей Николаевич, сколько же, они потеряли! Они же человека потеряли, главное потеряли, веру людей в свое производство потеряли, в себя! А мы — сохранили… И человека, и веру в жизнь, и идеалы. Несмотря ни на какие испытания.
Межов вспомнил свой разговор с Балагуровым в райкоме, когда тот прослеживал изменение хозяйственных отраслей района, и сказал, что за первую половину века ни одного спокойного десятилетия у нас не было.
— Верно, ни одного, — Щербинин достал из плаща папиросы и закурил. Бросив спичку, сказал с неожиданным воодушевлением: — Геройский у нас век, титанический. Дело, которое мы подняли, не поднимал никто. Никогда. Похожего даже не было в истории. И устояли. А знаешь почему? Потому что хватило мужества пойти до конца. Такая у нас партия. Понимаешь, в чем дело? Чтобы упрочить завоевания революции, надо уйти чуть дальше возможного. Правая и левая оппозиции по сути мелкобуржуазны, им было достаточно достигнутого. Мы же боролись за интересы пролетариата, городского и деревенского. Именно мы должны были сделать следующий шаг, тот невозможный и ненужный для мелкобуржуазных слоев партии шаг, когда революция уже закончилась. И мы сделали такой шаг — коллективизацию. Чтобы закрепить все наши победы, закрепить Советскую власть. И кулака мы уничтожили потому, что нельзя было оставлять никаких корней, никаких остатков капитализма — это старье не только отравит жизнь, оно способно изменить направление движения. Старое всегда бьется N: новым насмерть и порой побеждает. На время. Человечеству такие победы обходятся слишком дорого. Вспомни Германию, Испанию: не победили коммунисты — власть взяли фашисты, самый мерзкий, самый подлый отряд империализма…
Межов и прежде видел — серьезность этого сурового человека, но только сейчас начинал понимать его масштаб, его глубину. И невольно сопоставил с Балагуровым, непростым, многоопытным, и задумался о сущности их спора на семинаре. Решил прямо спросить об этом, и Щербинин ответил неожиданно мирно:
— Он сейчас сам уверен и других хочет уверить, что многие ошибки объясняются субъективными причинами. Вот, мол, был бы не тот, а другой человек, и ошибок бы не было. Очень это просто: поменяй только людей на руководящих постах, и жизнь пойдет как по маслу, наступит благословенный рай. Но ведь меняем, Сергей Николаевич, а рая что-то не видно и идеальной гладкости в жизни не наблюдается.
— Значит, дело не в нас и можно не пытаться что-то изменить?
— Ишь ты, ирония! Не трать патроны, дорогой. Надо пытаться, и не только пытаться — надо все силы в это вкладывать, себя не щадить, мы: родились для этого, и ни для чего больше. Но не все от людей зависит, не все сразу делается. Да и мы сами все время меняемся и требуем большего. С каждой эпохой, с каждым веком, с каждым годом. Мой отец ходил в лаптях за сохой и мечтал о сапогах. Я ходил уже в сапогах и мечтал о машинах, о силе раскрепощенного человека. И вот сейчас гляжу — все обуты, одеты, сыты, на полях машины, а человек опять недоволен, опять мало. Приглядевшись, и я вижу: да, правильно, кое-чего не хватает, не все гладко. А ты вот в модных дорогих ботинках идешь, и мечта у тебя летит еще дальше, в космос и в другие места…
Дома их давно ждали. Просторная двухкомнатная квартира стала непривычно шумной и тесной, хотя гостей было немного: шофер дядя Вася с женой, Юрьевна, Елена Павловна Межова, Ким. Правда, Ким какой гость. Вон облачился в фартук, помогает Глаше накрывать стол. Тут же бойко суетится круглая обиходная старушка, жена дяди Васи.
Глаша с Еленой Павловной вышли в прихожую, где они с Межовым раздевались, и, румяная, счастливая, Глаша ласково укорила:
— Заждались уж, без вас хотели начать. Елена Павловна приподнялась на цыпочки и поцеловала Щербинина в подбородок.
— Поздравляю, Андрей.
Щербинин обнял ее за плечи, нагнулся и поцеловал ответно:
— Спасибо, Лена, пришла. Николая бы еще… Елена Павловна торопливо вытерла платочком глаза, стала помогать Глаше устраивать одежду. Вешалка здесь не была рассчитана на гостей.
Вошел Чернов, о котором Щербинин как-то забыл в последнее время, и неожиданностью своего прихода обрадовал.
— Здравствуй, Андрей Григорьич, с праздничком тебя. Давно не проздравлял, забыл уж.
— Как же забыл, когда пришел?
— Да Марфа подтолкнула, баба моя. Нечаянно. Нонче тюкаю на стройке и весь день что-то гребтится и гребтится в душе, никак не пойму. Домой пришел, Марфе сказал, а она мне про сон: нонче, говорит, сон видала — Андрей, говорит, Щербинин доски тесал, новый дом себе строил. Нехороший, говорит, сон. Тут я и вспомнил. Какой же, говорю, нехороший, когда у него день рождения, мы этот день три раза на гражданской праздновали! Одно слово — баба.
— Что же ты не взял ее?
— Да девчонка простудилась, внучка. А Нина с фермы еще не пришла.
— Ну, раздевайся, проходи.
Щербинин пожал руку Киму, поздоровался с гостями и прошел в спальную переодеться. Следом за ним прибежала Глаша, радостно подала конверт. В конверте лежала грамота облисполкома и короткая записка председателя: «Дорогой Андрей Григорьевич! Поздравляю с новой весной, желаю крепкого Здоровья и большого личного счастья».
— Ольга Ивановна звонила, тебя спрашивала, — сказала Глаша. — Наверно, проздравить хотела с праздником. А може, прядет. Я пригласила.
— Ну и дура. — Щербинин стал раздеваться. — Достань-ка выходной костюм.
Глаша зарделась, счастливо понесла свой живот к шифоньеру. Самостоятельный у нее мужик, такой в обиду не даст.
— А говорить надо «поздравляю», а не «проздравляю», ты еще молодая, учись, — сказал Щербинин, не подозревая, что этим замечанием окрылил Глашу.
Молодая! А что, и не старая, если все при ней, ребеночка еще родить может, не больная. А правильно говорить научится, сейчас в декрет пошла, книжки читать станет.
Она радостно хлопотала вокруг мужа и видела, что ему приятна ее забота, ее радость, он доволен, облачаясь в чистое, отглаженное белье и слушая, как за дверью весело переговариваются гости. А что еще надо хорошему человеку — больше ничего.
Она вставила новые запонки в манжеты белой сорочки, подала брючный ремень, принесла новый галстук, свой подарок ко дню рождения. Строгий темный галстук, с красной полосой наискось, с по-, золоченной булавкой. Во всякой одежде походил ее мужик, пусть теперь всех нарядней будет.
— Хороший галстук, — сказал Щербинин, надевая его через голову перед зеркалом. — Главное, узел не надо завязывать. Спасибо, Глаша.
— Правда, ндравится?
— Нравится, — поправил Щербинин.
— Я научусь, Андрюша, ты не сумлевайся, научусь.
Глаша поправила ему воротник сорочки, отошла назад, оглядела со стороны.
Говорят, ее мужик строгий, сердитый, некоторые боятся его, а он добрый, добрее его никого нет на свете. И костюм на нем сидит ладно, и сорочка с галстуком в самый раз. Вот еще снять бы повязку, глаз стеклянный вставить, и будет красивый, как сынок его Ким. Сейчас такие глаза делают — от живого не отличишь.
К гостям они вышли вместе, и Глаша сразу почувствовала, что и Киму, и Елене Павловне с сыном, и Чернову, и дяде Васе — всем нарядный Щербинин стал как бы ближе, по-домашнему проще рядом с ней, и она вышла вперед животом, радушно, как хорошая хозяйка, пригласила вполне грамотно:
— Дорогие гости, просим к столу!
Первый заздравный тост получился немного напряженным, церемонным, да и здравицу произносили двое: сперва Глаша, по праву хозяйки, но она сбилась, махнула рукой и села, потом Чернов — как старый боевой товарищ.
Он встал, по обыкновению прокашлялся, тронул рукой пушистые усы, поднял высоко над столом рюмку:
— Давайте, значит, выпьем за здоровье первого председателя новой нашей власти в Хмелевке, за Андрея Григорьича Щербинина.
Вслед за ним все встали с поднятыми рюмками, подождали, не скажет ли Чернов еще что-нибудь, но Чернов долго морщил лоб, собираясь с мыслями, и сказал уж под звон рюмок, протянутых к Щербинину:
— За то, чтобы он до ста лет у нас был председателем!
— А потом что я буду делать? — спросил Щербинин без улыбки.
— Потом отдыхать станешь, — сказал Чернов, улыбаясь. — Тогда у нас порядок будет везде, председателей не надо, все станем сознательные.
— Подходит, — сказал Щербинин и выпил, как в молодости, одним глотком, сел, стал закусывать, поглядывая на сына.
Ким сидел на другом конце стола рядом с Межовым, непривычно тихий, задумчивый. Рассаживая гостей, он балагурил, шутливо сокрушался, что «законных» пар получается только две — начальник с супругой да его шофер, прочие же «незаконны»: Межову придется сидеть с матерью, а Чернову с Юрьевной. Впрочем, Чернов и рассчитывал, вероятно, на это: своя старуха надоела, почему бы не поухаживать за вдовой. Юрьевна и Чернов засмущались, но все же послушались и сели рядом. А Ким, вслух пожалев себя за одинокость, добавил, что хотел привести с собой невесту, да побоялся отца. Щербинин строго посмотрел на него, запрещая дальнейшие пояснения.