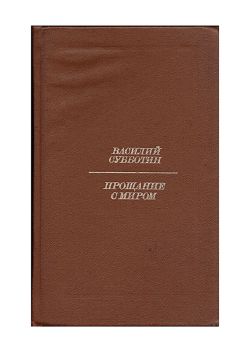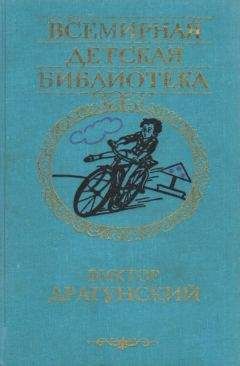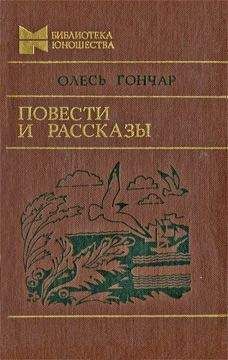Василий Субботин - Прощание с миром
Глава вторая
В первое мирное лето, после войны вскорости, я и сам тоже волею судьбы, обстоятельств или того, что принято называть подобного рода словами, оказался в госпитале, размещенном и одном небольшом городке на севере Германии, и провел здесь не один тяжелый для меня месяц.
Переход от войны к миру оказался для меня более чем трудным. Я был как тот провод, по которому перед тем шел ток высокого напряжения. Я жил в таком напряжении всю войну, что был как тот провод. Едва только мы вылезли из развалин Берлина и едва только пришли сюда, в этот мало кому известный бранденбургский городок, как я сразу же свалился. Сказалась война, сказалось все, что было испытано на ней, начиная с сорок первого года, но больше всего — старая, когда-то перенесенная и совсем вроде бы одно время преодоленная контузия. Но так всегда и бывает, должно быть, когда спадает напряжение. Меня надо было поскорее включить в сеть, а меня держали здесь, на окраине этого крохотного городка, среди этой громкой, оглушающе действующей тишины, и я с каждым днем чувствовал себя все хуже и хуже.
Сам того не ожидая, я остался один, без друзей, без товарищей, с которыми прошел всю войну, без той жизни, к которой я привык и к которой, может быть, единственно был пригоден, и не находил себе места. Я лежал в этом наполовину брошенном немецком городе, в госпитале, относящемся, как впоследствии выяснилось, даже к другой армии, и не знал, где мне искать своих. Я только знал, что они на Эльбе и даже, как мне говорили, далеко за Эльбой где-то, но где точно — я совершенно не знал и не имел об этом ни малейшего представления.
Между прочим, в первое утро, когда я только еще поступил сюда, еще до того, как я успел оглядеться здесь, когда я только-только проснулся, я увидел рядом с собой на соседней койке глядевшего на меня человека, младшего лейтенанта, как потом оказалось. Не помню уж, с чем он лежал, оправлялся, должно быть, от старых болезней, отлеживался, пока можно было, пока позволяла обстановка. Он и сам, должно быть, только что проснулся. Поглядев на меня еще раз и убедившись в том, что я и впрямь проснулся наконец, он вытащил откуда-то из-под подушки колоду довольно засаленных карт и, подмигнув мне по-свойски, сказал весело:
— Ну что, старшой, перекинемся, что ли?
Откуда он узнал, что я старший лейтенант, понять не могу, от сестры скорее всего, должно быть, пока я еще спал.
Я согласился, хотя в карты, насколько помню, никогда в жизни не играл, разве что дома, в деревне, в детские годы свои, но, конечно, в дурака да в подкидного, если только это не одно и то же.
На подоконнике у меня лежали марки, несколько пачек так называемых оккупационных марок, набравшихся у меня с той минуты, как мы перешли границу и нам этими марками стали платить жалованье. У меня их — тратить их все равно было некуда — набралось за это время пачек двадцать, не меньше. Две высоких стопы, туго забандероленных, заклеенных поперек бумажной лентой, лежали у меня на самом виду, на подоконнике. Когда я, накануне вечером, поступил сюда, у меня, как водится, все сразу же отобрали: и пистолет, и гимнастерку, и сапоги мои новые, и даже полевую сумку, с которой я столько прошагал, пряча в нее все, что у меня было, но прежде всего блокноты с моими большей частью сделанными на передовой и потому очень краткими корреспондентскими записями. Взамен мне дали не достающий до колен вытертый дамский халатик да кальсоны с тесемочками, которые имели способность столь туго затягиваться, что развязать их не было никакой возможности.
Все мои бумаги, документы, какие у меня были, и эти марки мне пришлось завернуть в газету, а что-то даже, поскольку девать все это было некуда, завязать в носовой платок и со всем этим направиться в палату…
Мой сосед, этот младший лейтенант, лежащий со мной рядом, как видно вполне уже освоившийся к этому времени с обстановкой, быстро углядел эти мои валяющиеся без всякого присмотра и употребления марки.
Не прошло, я думаю, и сорока минут, как все эти двадцать пачек, более десяти тысяч, я думаю, перекочевали с моего подоконника в тумбочку этого младшего лейтенанта. Очень быстро он все это проделал. Я и сообразить ничего не успел, как у меня не осталось ни одной марки.
Младший лейтенант этот, если уж на то пошло, был, как оказалось, картографом в штабе одной из дивизий. Сеть такая должность на войне. Звали его Колея. Мы с ним потом подружились даже…
Палата, в которой я лежал, была большая, человек, я думаю, на сорок, не меньше. Это был огромный, вытянутый в длину зал. Люди лежали тут тесно, в два ряда, разделенные только узким проходом, и я отсюда, из своего угла, от стены, где меня положили, не сразу всех мог разглядеть. Как и весь госпиталь в целом, палата была сборной. Тут лежали и раненые, и контуженые, и даже, то лее в результате перенесенных травм и контузий, такие, которых бросало иногда с кровати, разом, в одно мгновение, так что не успеешь оглянуться, а его уже бьет — человек уже лежит между кроватями и бьется, колотится головой об пол. И надо было, не теряя времени, кидаться, придавливать такого человека к полу, чтобы он не убил, не искалечил себя… А еще тут были люди с застарелыми, запущенными, незаживающими ранами. Надо сказать, что эти страдали особенно сильно. Когда раны у них, чаще под вечер, во второй половине дня, или утром, на рассвете, принимались гореть, они сбрасывали все, что у них было под рукой, требовали морфия, уколов, а если сестры, соблюдая запрет, не хотели делать, отговаривались чем-нибудь, уходили и долго не появлялись, вслед им, и дверь, к дверям, летели костыли, чашки, все, что можно было схватить с тумбочки или с полу и бросить в припадке гнева, вызванного болью, в исступленной, бессильной ярости.
Тут, как уже сказано, все были вместе, и больные и раненые, многие из которых были безнадежными. Все лежали в одной общей палате на кроватях, тесно поставленных одна к другой… Но больных тут было даже больше, чем раненых. Еще раз скажу: я думаю, что врачи знают об этом лучше всего — с окончанием войны люди повалились как-то сразу, один за другим. Очень многие попали в госпитали. Все, я думаю, оттого же, что спало напряжение. Война догоняла людей, казалось бы уже вышедших из войны.
Все тут лежали вместе, в одной, повторяю, общей палате, один возле другого и один за другим.
Каждый тут был сам по себе и одновременно вместе со всеми. Каждый попал сюда своим путем, и у каждого тут была своя судьба и своя доля. Не всем суждено было отсюда выйти, и это тоже знали все, не каждый только знал это про себя.
Довольно долго я лежал в этой общей палате, а потом, недели две спустя, меня перевели в другую, маленькую совсем, с окнами во двор, где лежали еще двое — старик, очень исхудавший, врач-подполковник, работавший в том же госпитале, у которого, как я узнал позже, был рак, и еще один — авиатехник, кажется, этот был помоложе, человек замкнутый, если не сказать осторожный, у которого было слишком смутное представление о войне, что меня очень тогда удивляло. (На войне можно быть за десять километров от войны и ничего не знать о ней!) Но скоро старик умер, авиатехник получил отпуск, а я остался один. Госпиталь понемногу начинал освобождаться, рассовывать по разным местам и отправлять в тыл тех раненых и больных, которых можно было отправить.
Госпиталь был расположен за городом, почти на самой окраине. Это был целый больничный городок, вокруг которого шла высокая красная стена. Рядом с ним, с этим больничным городком, через дорогу от него, за луговиной, сияло большое озеро, оно нее заросло по краям деревьями, а кое-где даже тростником и осокой. Только на противоположном берегу были видны какие-то деревянные постройки, купальни, причалы может быть, а в одном месте, в разрыве, за домами, была видна кирпичная труба, — должно быть, корпус какого-нибудь небольшого здешнего завода. Левее там, на середину озера, с противоположного, как я думал, подступающего сюда берега, выдавался далеко в воду хвойный лесок, росли высокие ели и сосны, а по-над водой такие же высокие ветлы.
Такое это было озеро и такой берег.
Я мало находился в палате у себя. Едва только мне разрешили выходить на улицу из палаты своей и из корпуса, как я переодевался, надевал вязаные брюки, где-то мной раздобытые, белую рубашку и уходил в город. Я шел через больничный городок, держась в тени, под навесом густых каштанов, по булыжным, камнем мощенным аллеям, шел к воротам, никем и никогда не охраняемым. Затем выбирался на дорогу, высокую, гудронированную и тоже загороженную от солнца стоящими по бокам деревьями. Но залитое черным гудроном шоссе гудело, по нему то и дело проносились машины. Я сходил на боковую дорожку, забитую травой. Справа от меня сверкало озеро, а на другой стороне, за мощным столбом тени, сквозь деревья были видны озаренные солнцем поля, зеленые и желтые холмистые дали, а там еще такие же ветвящиеся, раскинувшиеся во все стороны дороги.