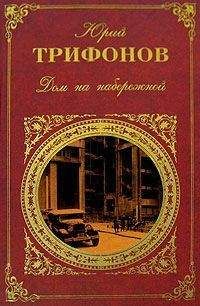Сергей Снегов - В полярной ночи
— Включите свет, Ирина, — прошептала Варя. — Зина спит, она ничего не услышит.
Но Ирина не подошла к выключателю, а остановилась посреди комнаты. В полусвете сияния, проникавшего сквозь замерзшее окно, она вырисовывалась смутно и неопределенно. Она не сбрасывала пальто, запрокинула вверх руки и откинула назад голову. Платок сполз с ее головы и с шуршанием свалился на пол — на темном полу лежало светлое пятно. Все это было так, как часто происходило — Ирина любила эту позу с запрокинутыми вверх руками. И все это было другое, чем прежде, — и ее странное молчание, и то, что она не поднимала упавшего платка, и даже то, что она не зажигала света, словно боялась его. И Варя вдруг поняла, что произошло с Ириной, она поднялась на кровати.
— Ирина! — сказала она отчаянно. — Ирина! Ирина медленно подошла к кровати и, еще не сев на нее, крепко ухватила Варю за голые плечи. Ее волосы упали Варе на лицо, она прижималась к Варе всем телом. И снова она была не похожа на себя, равнодушную ко всему, лениво-замедленную. Варя ощутила, как от нее струятся волнение, тревога и счастье. В комнате было темно, но Ирина вся словно светилась этим внутренним волнением. Варе казалось, что она видит ее лицо — румяное, смущенное, полное восторга. И Варя, вспомнив о нападении на Зину, спросила совсем не то, что надо было спрашивать, а первое, пришедшее в голову:
— Он проводил вас, Ирина? На улице сейчас опасно.
— Да, он проводил меня, Варя. Он такой хороший, Варя, он такой хороший! — Ее голос и слова подтверждали то, что Варя уже угадала. И сама Ирина знала, что Варя все угадала и больше объяснений не нужно.
И тогда Варя, потрясенная, проговорила то самое главное, что надо было говорить:
— Да ведь у него жена и дети, он никогда их не бросит. Зачем вы разбиваете себе жизнь?
Ирина вскочила, оттолкнув Варю.
— Ну и что же? — крикнула она громко. — Какое мне до этого дело? — Испуганная своим криком, она оглянулась — Зина спала. Она снова села на кровать, положила руку на Варино плечо и проговорила со страстным убеждением: — Какое это имеет значение, Варя? Какое значение?
— Очень большое, — сказала Варя скорбно. — Как вы не понимаете? На всю жизнь или просто так…
— Нет, не так, не так! — прервала ее Ирина. — Нельзя это говорить, Варя. — Она зашептала горячо, страстно: — Нет, Варя, нет! Ты пойми, мы мучаемся. Мне двадцать пять лет, а я жизни не видела. А жизнь проходит, лучшие годы жизни, пойми это, Варя! И сколько так еще ждать, в одиночестве, я тебя спрашиваю, сколько? Ты не знаешь, и я не знаю, и никто не знает. Ну и пусть он женатый — разве я виновата в этом? Но он любит меня, а я так хочу, чтобы меня любили! Я так хочу, чтоб меня любили! — с вызовом повторила она, поднимая голову. И снова, наклонившись к Варе, она проговорила с глубокой верой в свои слова: — И я тебе еще скажу: для кого мне хранить себя? Может, он, тот, на всю жизнь, совсем не придет или придет злой, будет меня обижать, мучить, изменять мне, — разве мало таких? Мне говорят: «Ты красива, найдешь свое счастье», — а я не хочу быть красивой, хочу быть счастливой! Думаешь, я не знаю, что все это ненадолго? Знаю, знаю, все знаю. Если он уйдет назад, к жене, слова ему не скажу в укор, потому что я сама виновата. А сейчас я счастлива и ничего мне больше не нужно. Я вот столько лет ждала этого и все боялась, шаг боялась сделать, а сегодня сама бросилась ему на шею!
Варя отвернулась от нее и положила голову на подушку. Ей было плохо. Сердце ее тяжело стучало и металось, голова кружилась. Ирина шептала ей горячо и ласково:
— Варенька, дорогая, я же все вижу — ты любишь его. И он тебя любит, поверь, глупая! Чего же ты ждешь еще? Для кого, Варенька? Ну и пусть он женатый, как мой Володя, а сейчас он мой и долго еще будет мой, долго, Варя!
Но все это было так далеко от того, о чем мечталось Варе, что она застонала от отчаяния и обиды. Она прошептала сквозь слезы:
— Не говори мне этого, не надо, не надо!
11
Начавшаяся полярная ночь неторопливо разматывала свои напасти — морозы крепчали, одна пурга сменяла другую, на землю наваливались непробиваемые темные тучи. Радио неделями не работало из-за непроходимости в эфире, в клубе месяц крутили одну и ту же картину. Ленинск превратился в остров, наглухо отрезанный от всей страны. Только теперь Седюк понял, какой глубокий смысл был в словах северных старожилов, когда они говорили: «Там, на Большой земле» или «Там, на материке…» И когда в мелькнувшее окошко хорошей погоды прорвались сразу три самолета с новыми людьми, медикаментами, газетами, он так же «слетел с точки», как и все в поселке. Установившийся в Ленинске порядок жизни «днем и ночью работаем, а остальное время спим» (как определил его Янсон) был сметен.
У клуба не иссякала толпа, все хотели попасть в кино. Привезенные новые фильмы показывали с десяти часов утра до четырех часов ночи, и мест ни на один сеанс не хватало. Во всех цехах и строительных конторах охотились за свежими людьми и комплектами газет. И на людей и на газеты записывались и очередь, пытались добыть их вне очереди, применяя запрещенные методы борьбы и без зазрения совести подставляя соседу ножку. Седюк, узнав о самолетах, кинулся в проектный отдел — ждать, пока газеты дойдут до опытного цеха, он был не в силах.
Он попал в самый пожар страстей. Во всех семнадцати комнатах проектного отдела уже второй день не было ни одного работающего человека. Отдел превратился в распавшееся на семнадцать очагов политзанятие или митинг. На чертежных досках были расстелены газеты, над каждой газетой склонялись десять голов, еще десяток человек, не добравшись до вожделенной помятой полосы, стояли рядом, слушали и вмешивались в споры. Обсуждения и страстные дискуссии открывались посреди чтения и едва ли не после каждой статьи. Прочитанную газету передавали на следующий стол или уносили в соседнюю комнату, где обменивали на другую.
Седюк хотел знать одно: что со Сталинградом? Он пустился отыскивать ту комнату, где читали самые ранние газеты, чтобы проследить все сводки по порядку. Вот уже два месяца изо дня в день, утром и вечером, радио сообщало только о боях в районах Сталинграда и Моздока. Давно уже прошло то время, когда в каждом сообщении мелькали все новые и новые названия оставляемых городов, покидаемых речных рубежей, люди уже не находили в самой сводке картины отступающих армий, брошенной техники, окруженных, пробивающихся с боями дивизий. Но люди научились читать и слышать между строчками. Если диктор говорил, бои идут упорные, напряженные, ожесточенные и тяжелые, то все понимали, что все это совсем различные бои. Когда только упорные — еще не страшно, войска удерживают свои рубежи. Если напряженные — значит, нам трудно, у немцев перевес, мы напрягаем все силы. Если ожесточенные — немцы рвутся вперед, атаки сменяются контратаками, земля горит под ногами, таков ожесточенный бой. А уж когда тяжелые — так в самом деле тяжко сверх меры, мы отступаем, теряем людей и технику. Самые лучшие бои — активные: мы продвигаемся вперед, выбиваем немцев. И по радио в сообщениях о Сталинграде чаще всего слышались самые грозные слова: напряженные и тяжелые бой. Еще нигде не было сказано, что сражение, вспыхнувшее у стен Сталинграда, — величайшее, решающее сражение всей войны, но каждый чувствовал, что это так. И никогда за все время войны ни одна сводка не порождала такой тревоги, такого молчаливого ожесточения, как простая, изо дня в день повторявшаяся сводка Сталинградского сражения. Первые известия о вторжении немцев в Сталинград, об уличных боях, о сражении в заводских корпусах вызывали страх и ненависть. Теперь к этому чувству прибавилось новое — гордость за великий, истерзанный, непобедимый город. Сводки еще говорили о немецких успехах: враг прорвался к Волге, разрезал наши армии надвое, захватил центр города, все исступленнее грохотала битва в цехах тракторного и металлургического заводов, один за другим падали все новые и новые городские кварталы, улицы и дома. Но слово «Сталинград» уже означало не высшую точку фашистского наступательного движения — это был образ великой стойкости, несгибаемого мужества, неслыханных трудностей и блистательного умения преодолевать их.
Седюк с жадностью читал газету за газетой. В статьях военных корреспондентов вставали живые картины великого сражения: бои за овраги, улицы и дома, битвы с танками в разрушенных заводских цехах, ночные переправы через Волгу под бомбежкой, схватки в воздухе.
— Какие заводы погибли! Лучшие заводы нашей страны! — услышал Седюк.
Он повернулся и увидел Телехова. Старик страдал. Седюк вспомнил, с какой любовью Телехов описывал сталинградский завод качественных сталей. На этом заводе неистовее всего бушевала война, именно здесь непоправимее всего были разрушения. Седюку захотелось сказать Телехову что-нибудь ласковое, что-нибудь такое, что отвлекло бы его от мрачных мыслей. Но он не решился.