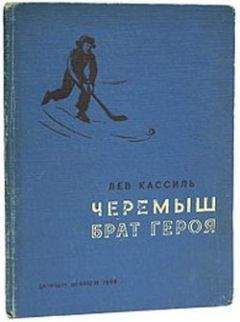Лев Кассиль - Том 2. Черемыш, брат героя. Великое противостояние
– Ну, ладно, ладно, не фырчи, жареный халдей, – добродушно проговорил Жмырев и перемахнул через брандмауэр на свою крышу.
Защитники нашей крыши собрались вокруг Игоря, шумно отдуваясь после схватки с зажигательными бомбами. Кто осматривал прогоревшую одежду, кто дул на обожженную руку. И все очень хвалили Ваську:
– Это кто тут так ловко орудовал?
– Да это один парень тут у соседей гостит. Подмосковный сам. Шалопай.
– Шалопай, а гляди, как хорошо управился! Отчаянный!
А Игорь сопел в стороне, недовольный.
– Сима, у тебя булавки английской нет? – шепотом спросил он и, получив булавку, долго пришпиливал к поясу расползавшиеся, наполовину сожженные штаны.
А я немного повеселела. Как-никак это было наше первое боевое крещение, и мы не сплоховали. Тем, невидимым, летящим в тревожном небе Москвы, злобно целящим в нас, швыряющим на наши головы, на наши крыши огонь, все-таки не удалось сжечь наш дом. Мы отстояли его.
«А где сейчас Амед? – подумала я. – Жаль, что он не видит меня здесь, на боевом посту! Вот бы зауважал! А то спит, наверно, сейчас под спокойными горячими звездами и прислушивается, как пофыркивает и хрустит сеном в конюшне его этот самый хваленый Дюльдяль…»
Только когда в рупорах послышался желанный отчетливый голос: «Угроза воздушного нападения миновала. Отбой», я спустилась с крыши. И внизу вдруг почувствовала, как ужасно я устала за эту ночь.
Из укрытий повалил народ. Все шумно переговаривались, делились своими переживаниями.
Пионеры мои, насильно загнанные в убежище, обступили меня, наперебой рассказывая, что они испытали там, внизу, когда земля тряслась над их головой. Какой-то старичок в ночной сорочке и войлочных туфлях показывал всем колючий, зазубренный осколок: «Так и звиркнул прямо в окошко, – гляжу, а он на подушку улегся. Еще горячий был…»
Поднялась из подвала мама, бледная, задыхающаяся, кинулась ко мне, обхватила ладонями мою голову, стала целовать:
– Господи, Симочка, страсть-то какая… Ой, дайте на волю выйти, дыхнуть дайте!.. Зачем же ты такой риск себе позволяешь? Да – не к тому будь сказано – вдруг бы в тебя попало!.. Ой, батюшки, сколько же еще нам терпеть?.. И отца нигде не видать. Куда его унесло?
Но отец уже проталкивался к нам, крича издали торжествующе:
– Здесь я, мать, здесь! Живой, в лучшем виде.
– Господи, куда же тебя, слепого, носит? – рассердилась мать.
– Брось, Катя, брось, – говорил отец. – Теперь моя слепота сгодилась. Я уж двадцать пять лет в затемнении хожу. Это вам только с непривычки. Я, мать, сегодня на нашем объекте за главного был. Все тычутся куда попало, мне это затемнение все равно не видать. Вот, выходит, и я сгодился… Симочка, что это у тебя на руке-то? – Он погладил мою кисть. – Ожог, никак? Ты бы все-таки поостереглась… Есть и без тебя кому на крыше стоять…
А Васька Жмырев ходил и похвалялся количеством потушенных бомб.
Так прошла первая боевая ночь Москвы. И хотя мы не выспались и некоторые были перепуганы, все же в людях чувствовалось особое, новое и гордое упрямство. Мы попробовали себя в борьбе с огнем. Москва вошла в соприкосновение с врагом. Все чувствовали себя сегодня увереннее, чем вчера.
Глава 10
Не смыкая глаз
Пришла вторая ночь тревог.
И опять мы стояли на крышах. И чувствовали, как содрогается Москва от ударов бомб. Фашисты в этот день бросали мало «зажигалок», но больше швыряли фугаски.
Утром люди с волнением рассказывали о том, что тяжелая бомба разнесла театр Вахтангова. По улицам мчались, завывая сиренами, кареты «скорой помощи».
За второй ночью пришла третья. Теперь каждый вечер около десяти часов начинали выть сирены. К этому часу люди уже подбирались поближе к убежищам, где теперь вместе с дружинниками несли дежурства и мои пионеры. Это им разрешили. И как только начиналась тревога, я слышала внизу, во дворе, голоса моих девочек:
– Спокойно, граждане! Женщины и дети, вперед… Товарищ, пропустите гражданку с ребенком… Проходите, граждане, проходите, не скапливайтесь…
Пионеры мои с гордостью носили противогазы, а у девочек были сумки с красными крестами.
А налеты на Москву продолжались. Немцы, должно быть, хотели подавить волю города постоянной бессонницей. И действительно, все люди в Москве казались невыспавшимися.
Тяжело мне было смотреть на длинные очереди старушек, которые с узелками, баульчиками, прихватив внучат, часов уже с семи занимали очередь у станции метро.
Мы все начали уставать. Все время хотелось спать. С каждым днем труднее и труднее было выдерживать ночное дежурство на крыше. Мы стали меняться, чтобы давать друг другу передышку. Шумная и лихая суматоха первой ночи сменилась теперь изнурительной, суровой сосредоточенностью. Мы стали опытнее. Мы меньше пугались, но и меньше восторгались, когда нам удавалось потушить бомбу. Это уже стало обыкновением. Да и не каждую ночь падали бомбы именно на наш район. А ночь все равно была бессонной.
Не унывал только Ромка Каштан. Он приходил ко мне в часы, свободные от дежурства в истребительном батальоне, и каждый раз приносил или новую песенку, или рассказывал что-нибудь смешное. Какие только веселые глупости не придумывал он! Сочинял уморительные объявления вроде: «Меняю одну фугасную бомбу на две зажигательные. Желательно в разных районах». Когда Ромка с нашими старшеклассниками рыл большие щели-укрытия, он вывесил огромный плакат: «Цель оправдывает средства», а сбоку к букве «Ц» приписал красным карандашом еще одну толстую палочку, и получилось: «Щель оправдывает средства». Однажды он пришел ко мне днем, как всегда аккуратный, подтянутый, в щегольской пилотке с красной звездой, застал меня во дворе с моими пионерами и сейчас же начал:
– О-о, великие астрономы, зодиаки и само светило! Слушайте, вы, цыпленки, я могу вас обучить новой песенке, слышали? Как раз для младшего возраста. Ну-ка, хором за мной!..
– Глупо, Ромка, – сказала я, хотя самой мне было смешно. – Как ты можешь в такое время… Ты бы хоть чуточку стал солиднее.
– Солидными должны быть стенки в бомбоубежище, – возразил Ромка, – а личная солидность никого не спасает, только обременяет хуже. Верно, цыпленки? А для вашей вожатой у меня есть особая песенка. Вот, прошу послушать. – И он запел: – «Крутится, вертится „юнкерс“ большой, крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, хочет попасть, а кавалер барышню все равно хочет украсть…» – Ромка привстал, галантно подбоченился, шепнул мне: – Можешь переписать для своего Амеда. – И затем продолжал как ни в чем не бывало: «Где ж эта улица, где ж этот дом, где все, что было вчера еще днем?»
Мне с ним всегда было весело, но я не любила, когда он шутил так при моих пионерах: мне казалось, что этим он умаляет в их глазах мой авторитет.
– Если сам сочинил, – сказала я, – то поздравить не могу: малоостроумно.
– Чем богаты, тем и рады, – отвечал, не обижаясь, Ромка. – Я понимаю, что тебе по твоему настроению другое нравится… Ну как? Что пишут из солнечной, знойной Туркмении?
Я, кажется, покраснела и хотела что-то сказать, но тут подбежала Катя Ваточкина:
– Симка, я тебя ищу целую вечность! Пошли в Парк культуры. Там народу – тьма! Талалихин будет выступать. Вот парень – красота! Герой! Абсолютный!
И мы пошли в районный Парк культуры. Пионеры мои увязались за нами. Но мы шли впереди и тихо беседовали с Ромкой.
Сперва мы шли молча, потом я сказала, полная своих мыслей:
– Писем нет, а телеграмма была.
– Ты это про что? – удивился Ромка, уже позабывший свой шуточный вопрос.
– Ну, оттуда… Из Туркмении. Ты же спрашивал.
– А-а! – каким-то скучным голосом протянул Ромка. – Ну, и что слышно там, на их боевом фронте?
– Да беспокоится за меня, советует поехать к брату Георгию. Там у них спокойно, вот он и зовет.
– И что же, собираешься? – спросил он, испытующе поглядев на меня.
– Ну вот, действительно, не хватало еще!.. Я ему написала, что мое место тут, в Москве. Рассказала про наших ребят. Как бомбы у нас тушили, вообще про нашу жизнь московскую.
– Ты пиши, да соображай, что пишешь. А то знаешь – военная цензура живо…
– Ну что я, не знаю, что ли, что можно писать, чего нельзя!
Я не сказала Ромке, что у меня вышло с письмами Амеду. Я понимала, что нельзя сообщать в письмах обо всех бомбежках, и писала, например: «Вчера опять у нас была бабушка. Она осталась ночевать и не дала нам покоя до утра. Бабушка что-то зачастила к нам. Старуха очень шумная, от нее масса беспокойства, и мы все время не высыпаемся…» Я была уверена, что Амед поймет, о чем идет речь. Но он писал в ответ: «Если ты решишь приезжать, забери с собой бабушку – старую женщину нехорошо оставлять одну. Мать тоже так думает».