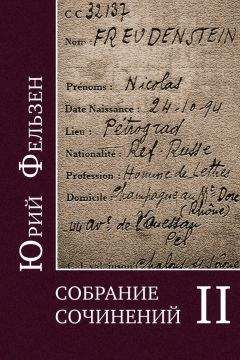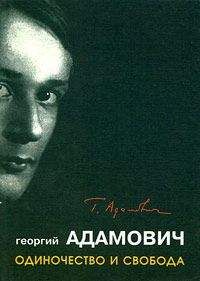Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I
– Господа, вовсе не плохо без бабья.
Пили мы из больших рюмок, величиной едва ли не в полстакана, причем Шура проделывал весь необходимый сложный церемониал, морщился, крякал, сосредоточенно нюхал хлеб, хотя переносил он водку несомненно легко, наоборот, Марк Осипович старался себя держать (как и в любых обстоятельствах) по-джентльмэнски невозмутимо, но было видно, что каждый глоток для него – самое отвратительное лекарство. От водки появился голод, и всё, что мы ели – слипшаяся паюсная икра, тонкие, твердые, жирно-соленые сосиски, крошечные телячьи котлеты с бумажными чехольчиками на худосочных костях, – всё это показалось необыкновенно вкусным и новым. Разговор велся беспорядочный. Помню, еще до водки Марк Осипович заметил, обратившись ко мне одному:
– Странно, Елена Владимировна кажется такой спокойной и так легко выходит из себя.
Я вас охотно защищал, оттого что в кафе вы нападали не на меня, и я поневоле сопоставил простое и теперь неоскорбительное, «нейтральное» замечание Марк-Осиповича с теми нечаянно-обидными вопросами, которыми прежде меня изводили мои приятели – почему вы ко мне придираетесь или явно со мной скучаете, не поссорились ли мы и часто ли ссоримся, чем я вас обидел и не очень ли вы злая: им я тогда и не пытался объяснить, какой вы бываете заботливо-доброй, боясь их недоверия и насмешек, а главное, того, что вся ваша милая внимательность вдруг обратится на кого-либо из них, боясь ваших, им предназначенных улыбок и нестерпимых для моего самолюбия их наблюдений и сведений, мне еще неизвестных.
Мы начали быстро пьянеть, и быстрее других Марк Осипович, зелено-бледный, с продолговатыми красными пятнами ниже глаз, безвыразительных, как-то сразу влажно остекленевших, со вздувшейся жилкой на лбу и с плохо скрываемым отвращением к запаху спирта и к еде, до которой он почти не дотрагивался. Мне казалось, что голова у него трезвая и что ему лишь невыносимо дурно (бывают и такие, вероятно, самые незадачливые пьяницы), и я предложил ему больше не пить, – «Нам с вами всё равно за Александр-Андреичем не угнаться», – с чем он немедленно согласился, притворно-равнодушно бросив: «Как хотите». Вскоре после этого неожиданно появился Бобка, уже вами не напуганный, улыбающийся и с трубочкой в уголку рта. Мы в ресторане находились недолго, я совсем не надеялся на такое скорое Бобкино появление и догадался, что вы его поторопили – ради окончательного моего спокойствия. Это ваше необычайное внимание, этот косвенный, откуда-то издали, ваш привет растрогали меня, к тому же разгоряченного водкой, и я, переполненный благодарной, неистовой радостью, всё беспредельнее внутренно вдохновлялся, а внешне – разговаривая или молча – намеренно соблюдал какую-то, вас достойную сдержанность, причем и сдержанность моя, и вдохновение были вами не только внушены, но и как бы предназначались в вашу честь. Бобка подсел к Шуре, и они несколько бесцеремонно (раз Марк-Осиповичу предстояло за всех платить) меняли графинчики один за другим и, пересмеиваясь, дружно хмелели. Марк Осипович дважды исчезал (неубедительно сославшись на головную боль) и во второй раз вернулся почти выздоровевшим. Я почему-то захотел уловить, что именно связывает его с Бобкой: по-видимому, Бобка – в надежде на будущие выгоды – является добровольным его адъютантом, и он чуть презрительно принимает небескорыстное это «адъютантство». Гораздо более запутанными мне представлялись отношения Марк-Осиповича и Шуры, несомненно обоими не осознанные, да и для меня, конечно, предположительные, но я люблю эти забавно-едкие опыты – выяснять, как образуются навязанные извне отношения между разнородными и часто противоположными людьми (например, щепетильно-светскими – и невоспитанными, грубыми, но умными, между людьми различных национальностей, военными и политиками, буржуазными женщинами и богемой) – и под заранее готовые категории я иногда чересчур поспешно подвожу какое-нибудь наблюденное, живое и непроницаемое сочетание. Так, сочетание Марк-Осиповича и Шуры я – может быть, даже и правильно – подвел под категорию русско-еврейских отношений, порою странно-болезненных и нередко счастливых (что, вероятно, острее задевает Марк-Осиповича), и кроме того, пожалуй, в каждом из них есть для другого особая привлекательность. Для Марк-Осиповича Шура – герой, офицер, многие годы войны, для Шуры Марк Осипович – дельность, карьера и деньги. Об этом повторялось непрерывно, и меня под конец начали изводить слезливо-пьяные их взаимные похвалы:
– Если бы все евреи были как вы…
– Главное, это понимать, что мы не враги, а друзья.
Я тоскливо оглядывался по сторонам: напротив сидели два русских танцора, перепудренные, занятые собой и по-интимному, неприкрыто-влюбленно-нежные, рядом с ними несколько грузин, а около нас неопределенного положения молодая дама, которую незадолго перед тем подруги уговаривали уйти и которая, после пьяного спора, не побоялась остаться одна. Грузины говорили вполголоса на своем языке и громким шепотом по-русски, и, кажется, их «прениями» руководил осанистый румяный старик с расчесанной надвое бородой – к нему постоянно обращались другие, называя его то князем, то полковником. Молодая женщина – как это бывает у пьяных – на него буквально уставилась и не знала, чем выказать ему внимание: прислушивалась к каждому его слову, одобрительно кивала головой, понятливо улыбалась и весело спрашивала глазами, нельзя ли ей подойти. Внезапно она поднялась, оказавшись высокой и стройной, и, с рюмкой в руке, среди водворившейся тишины отчетливо и уверенно сказала:
– За здоровье армянского народа.
Вышло чисто-анекдотическое недоразумение, и румяный князь нравоучительно ей ответил, что «среди всякого народа бывают хорошие люди», но знакомство, конечно, сделалось невозможным, и растерявшаяся женщина была собственной неудачей доведена до какой-то просто предельной жалкости. Марк Осипович, чтобы хоть немного ее выручить, посоветовал Шуре пригласить ее к нашему столу, и Шура, ни слова не произнеся, указал ей на место около себя, и когда она, еще растерянно улыбаясь, к нему подсела, притихшая и послушная, он с покровительственной, беззастенчиво-грубой ласковостью словно бы мимоходом ее погладил по голове. Я же тогда – не впервые – подумал, как скучно и сиротливо мужчинам одним (вспомнил сейчас, что это – ваше наблюдение), какой печальный у них вид даже и со стороны. И правда, мы все – каждый по-своему – оживились, словно такое случайное появление сразу оформило и воплотило предшествующие смутные наши надежды, вечную тоску о разделенности. В сущности, новая наша знакомая вовсе не могла особенно нравиться – красноватые, чересчур нехоленые руки, одно из тех незаметно-обыкновенных лиц, которые пренебрежительно называют смазливыми, бойкие карие глаза – мне лень подробнее ее описывать, и вряд ли кому-нибудь из нас придется снова ее увидеть, но что-то в ней было обещающее и женственное (может быть, не больше, чем во всякой другой неуродливой молодой женщине), и даже у меня, поглощенного вами, на нее, присутствующую, наглядную и живую, перенеслась частица всей вам предназначенной благодарности: я слишком трезво сознавал вашу недостижимость, хотя бы и временную, и свое до утра предопределенное одиночество. Впрочем, это мое состояние продолжалось недолго – я просто как бы встряхнулся от внешнего, реального толчка и к вам устремился еще сильнее, чем прежде: так иногда после нечаянной глупой измены (а минутное мое оживление в чем-то уже походило на измену) нас вдруг неудержимо тянет к той, кого мы не переставали любить. Теперь я совсем отошел от пьяной возбужденности моих спутников и за ними без любопытства и чуть-чуть рассеянно наблюдал. Марк Осипович с появлением незнакомой дамы – как многие любовные неудачники – настроился горько и грустно, Шура единственный с ней беседовал, расспрашивал о занятиях и о заработках и снисходительно ее смешил, и лишь Бобка явно скучал и от нас пересел к танцорам. Мне также лень вспоминать и записывать всё, что она – с невольным подъемом из-за ночного приключения – о себе говорила: выяснилось, что у нее небольшое «кутюрное» дело с двумя приятельницами, с которыми перед тем был отпразднован крупный заказ и которые так неохотно оставили ее одну. Вскоре веселый ее подъем сменился подавленностью, и она, как-то вся потускнев, торопливо собралась домой – разумеется, из нас четырех проводить ее вызвался Шура и уже ею распоряжался и командовал. После этого Бобка еще приставал с бесконечными вопросами к танцорам, а Марк Осипович со мною завел парадоксально-изысканный разговор.
Вы меня до крайности удивили, принужденно-шутливо рассказав, как накануне вечером Бобка – хотя к вам и ближе – настойчиво предложил сначала проводить Риту, чтобы с вами остаться вдвоем, и как он, очутившись вдвоем, попросту взял у вас деньги взаймы. Мне тогда захотелось узнать, не задалживался ли он и раньше, и меня еще более поразил ваш неожиданный, смущенный ответ: вы, покраснев, но со свойственным вам бесстрашием, признались, что в любовное ваше время он брал без отдачи, сколько вы могли давать – на совместные выходы, на карты и на костюмы. Я от неподготовленности растерялся, забыл о назначенной себе выдержке, и на меня стремительно налетело прежнее постоянное нетерпимо-ревнивое негодование из-за всей кричащей несправедливости вашего выбора и тогдашнего непонятного ко мне пренебрежения, но, несмотря на этот болезненный приступ ревности, я невольно оценил вашу обычную со мной прямоту и подумал, что после стольких изолгавшихся женщин немногие правдивые – даже мучающие и безжалостные – словно твердая почва после моря и что таких женщин особенно трудно заменить. С неменьшим бесстрашием вы сами установили всю видимую двусмысленность обидного вашего «романа», всю нелепость того, что вы, еще молодая и привлекательная, как будто бы содержали слишком юного своего друга – а разве Бобка не мальчик по сравнению с вами. Я решил вас добить настойчиво-осуждающим молчанием, и это ошеломительно на вас повлияло – по крайней мере, вы начали, сбиваясь и путаясь, защищаться:
– Мне почему-то казалось, что отношения у нас внутренно-честные. Но я знаю, какой он опасный «блефер», как близок иногда, ради глупого тщеславия, к авантюре. Достаточно видеть его церемонные поклоны. Ведь тогда на него смотрят, им заняты, можно порисоваться, и ему действительно представляется, что он – важный.