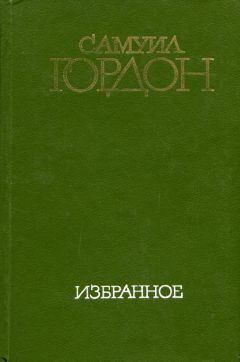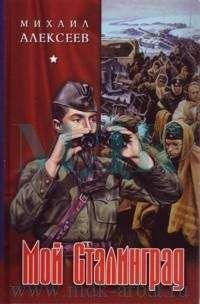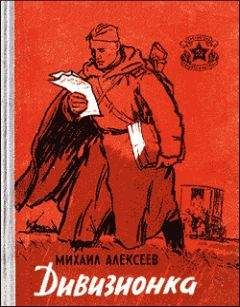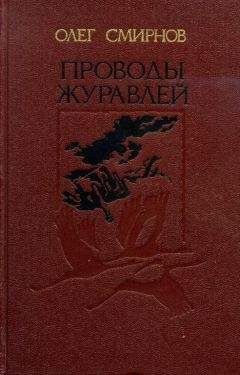Михаил Алексеев - Наследники
— Федя, милый… Я буду… буду матерью.
Она смотрела на него испуганными, виноватыми и умоляющими глазами. Он поскорее прижал ее к своей груди и стал говорить горячо, торопливо:
— Чего ж ты испугалась? Глупенькая! Отчего же тебе не стать матерью? Ведь я же… я же твой!
Любаша улыбнулась одними губами, а глаза у нее были по-прежнему испуганные и умоляющие. Такими они и остались в его памяти на всю жизнь. И еще запомнились ее узенькие плечи, когда она осталась одна на пыльном, замусоренном перроне.
В сталинградской степи, на разъезде Жутово, полк выгрузили и прямо с ходу бросили в бой: трехсоттысячная армия генерала Паулюса стремительно катилась к Волге. В те знойные июльские дни из Ставки нашего Верховного Главнокомандования пришел приказ, которому суждено было навсегда сохраниться в памяти фронтовиков. Запыленные, усталые и злые, окаменев, слушали они страшные слова приказа, и как же им не хотелось слышать то, что советский народ упрекает свою армию, не желая больше терпеть бесконечные отступления. «Что же это такое? Как же это?» — спрашивали они друг друга и надолго умолкали. Да, спасение было в одном: ни шагу назад, стоять насмерть!
С лихорадочно блестевшими глазами обходил свой батальон Пустынин. «Стоять насмерть!» — шептал он пересохшими губами, прислушиваясь к тревожному и гулкому стуку сердца. С той поры этими словами заканчивались все его речи перед солдатами и офицерами. Никто не смог бы сосчитать, сколько раз произнес он эту знаменитую фразу за те двенадцать дней, что провел на фронте.
А потом случилось вот что.
Комбат вызвал на КП всех командиров рот, чтобы поставить перед ними новую боевую задачу. Было это уже где-то на ближних подступах к Сталинграду. Федор Илларионович в конце совещания по обыкновению выступил с речью, которую заключил все теми же словами: «Стоять насмерть!»
Ему заметили:
— А фельдмаршал Кутузов произнес эти слова только один раз… Один раз за всю свою полководческую деятельность: на Бородинском поле…
Пустынин встревожился:
— Я вас не совсем понимаю, товарищ Лелюх. Может быть, вы скажете яснее?
— И так все ясно. Нельзя же…
Лелюх замолчал. Ему хотелось сказать, что нельзя так транжирить хорошие, сильные слова. Но, встретившись с тревожным взглядом Пустынина, он уже не мог сказать всего этого.
Потемневший, словно бы вдруг обуглившийся, стоял тот против лейтенанта.
— Гражданин Лелюх, — начал Пустынин ледяным, зазвеневшим на высокой ноте и показавшимся даже ему самому чужим голосом. — Слова «стоять насмерть!» я взял из приказа Верховного Главнокомандующего…
— Я это знаю, — сказал Лелюх. — Я не о том…
— Надеюсь, вы не забыли, кем подписан этот приказ? — перебил его Пустынин хрипло — во рту у него вдруг пересохло.
— Не забыл, — подтвердил лейтенант. — Ну так что же? Я ведь совсем о другом. И не понимаю, чем вы встревожены?
— И вы еще спрашиваете об этом?
…В ту же ночь Лелюх был арестован, а через два дня осужден военным трибуналом дивизии. Десять лет тюрьмы ему заменили штрафным батальоном.
После этого Пустынин решил пересмотреть наградные листы, составленные незадолго до этого события на красноармейцев первой роты, отличившихся в последних боях. У Федора Илларионовича не было оснований сомневаться в подвигах бойцов роты. Однако дать дальнейший ход документам он не решился: дивизия отступала, оставляя врагу один населенный пункт за другим, — до наград ли сейчас? За отданные неприятелю города и села, рассудил он, полагаются награды иного свойства. Пустынин легко убедил командира и комиссара батальона в правильности своего решения, и дело о наградах было отложено.
Но как быть с Савоськиным?
Боец этот совершил подвиг, о котором сам же Пустынин написал в армейской газете и о котором теперь знали далеко за пределами дивизии. При выходе из окружения в районе степного совхоза Зеты на первую роту двинулись два немецких танка. Один из них был подбит артиллеристами, а второй уже настигал группу солдат, отходившую вместе со своим командиром. И вот тогда-то, отделившись от товарищей — Пустынин хорошо видел это с наблюдательного пункта, — Савоськин выбежал навстречу танку и бросил под него две противотанковые гранаты. Сильнейшим взрывом танк был уничтожен. Но от этого же взрыва погиб и сам боец. Командир и политрук первой роты ходатайствовали о присвоении красноармейцу Савоськину посмертно звания Героя Советского Союза. И тут бы, разумеется, Пустынин не колебался — он очень гордился, что именно в его батальоне совершен этот, как он писал в газете, «бессмертный подвиг», если бы командиром, которого спас ценою своей жизни боец, не был только что осужденный лейтенант Лелюх. Впрочем, поразмыслив хорошенько, Пустынин пришел к выводу, что ничего тут особенно затруднительного нет: в конце концов Савоськин мог и не знать, что спасает провокатора. Рассудив так, Федор Илларионович все же уговорил командира и комиссара батальона понизить награду до ордена Красной Звезды и уже ни на минуту не сомневался в справедливости и даже мудрости этого решения. И может быть, именно поэтому Пустынину, принесшему наградные в штаб, таким неожиданным и странным показался вопрос, с которым к нему обратился новый командир полка:
— Скажите, пожалуйста, Пустынин, что еще должен был совершить красноармеец Савоськин?.. Такое, чтобы мы имели моральное право хлопотать о присвоении ему звания Героя Советского Союза?
Пустынин некоторое время молчал, стараясь угадать истинную подоплеку этого вопроса.
— Я что-то… простите, товарищ майор, но я что-то не понимаю вас, — наконец сказал он, и сказал чистую правду, потому что действительно не понимал, что скрывается за словами командира полка.
— Очень жаль, — сказал майор и тут же, на глазах Пустынина, зачеркнул слова «Красная Звезда» и поверх них написал крупными буквами: «Ходатайствую о присвоении посмертно звания Героя Советского Союза красноармейцу Савоськину Ивану Спиридоновичу». И, уже не поднимая глаз на Пустынина, коротко распорядился:
— Вы можете идти.
Федор Илларионович был достаточно опытен и умен, и он понял, что произвел на командира полка не совсем благоприятное впечатление, если не сказать большего.
По дороге на свой командный пункт он лихорадочно размышлял о том, как бы вернее и более коротким путем исправить положение. Десятки вариантов проносились в его разгоряченном мозгу, и ни на одном из них нельзя было остановиться — так несовершенны и ненадежны были эти варианты. Оставалось одно радикальное средство вернуть столь глупо утраченную репутацию — это отличиться в завтрашнем же бою: выскочить первым из окопа, поднять над головой пистолет, как делал комиссар Фурманов, и с возгласом «За Родину! За Сталина!» побежать вперед, к неприятельским окопам, увлекая за собой красноармейцев. Другого, как говорится, не дано.
Так он и решил поступить.
Ранним утром, когда над тускло отсвечивающими, темными от росы касками бойцов засвистела хватающая за самую душу красная ракета и когда кто-то рядом, кажется командир взвода, не своим, истошным голосом крикнул: «Вперед!» — и, согнувшись, побежал по окопу, Пустынин вскарабкался на бруствер и вдруг совсем забыл и о пистолете, который надо бы поднять над головой, и о тех пламенных словах, которые приготовил еще с вечера, — все забыл Федор Илларионович Пустынин, даже то, что за минуту до этого ему было очень страшно. Он не помнил, каким образом вновь очутился в том же окопе, откуда только что выскочил: дернул ли его за штанину стоявший сейчас рядом с ним комбат, или то была иная, более могущественная сила — поди теперь узнай. Тут же стоял Андрейка Ершик, десятилетний «ординарец» командира батальона, и смотрел на Пустынина своими шустрыми и как будто насмешливыми глазами. Заметив воспитанника, Федор Илларионович побледнел, лицо его вмиг усеялось мельчайшими бисеринками пота. Только сейчас ему до ужаса стало ясно: не отличился!
А на другой день прибежал связной с сообщением, что Пустынина вызывает командир полка. Расстояние до штаба Федор Илларионович прошел как по раскаленным угольям, готовый ко всему на свете, кроме разве того, что услышал из уст самого майора:
— Поедете в академию Фрунзе, товарищ Пустынин.
Нужно сказать, что, не возьми командир полка греха на свою душу, не видать бы Федору Илларионовичу Пустынину академии как своих собственных ушей. Военные люди хорошо знают об этом странном и парадоксальном на первый взгляд явлении: получив разнарядку о посылке на учебу одного или двух человек, командиры иногда используют это удобное обстоятельство, чтобы избавиться от никудышных офицеров. Не этой ли странной диалектике наши военные академии — да только ли военные? — обязаны тем, что туда порою попадают люди, которых не следовало бы подпускать к этим почтенным заведениям и на пушечный выстрел?.. Впрочем, сказанное выше вряд ли справедливо в отношении Федора Илларионовича Пустынина. Он, вероятно, был бы очень оскорблен, если б узнал истинные мотивы, побудившие командира отправить его в военную академию. Но Федор Илларионович ничего этого не знал, как не знал и того, что командир и комиссар полка возбудили ходатайство о пересмотре дела лейтенанта Лелюха, вина которого показалась им весьма сомнительной. Пустынин попрощался с однополчанами и на следующий день в самом добром расположении духа отбыл в академию.