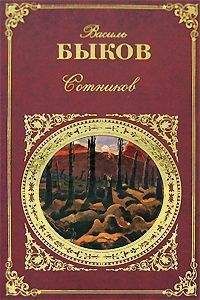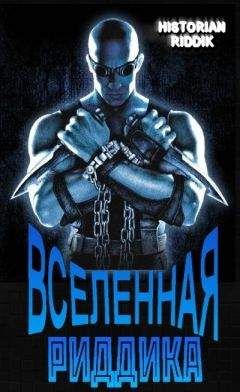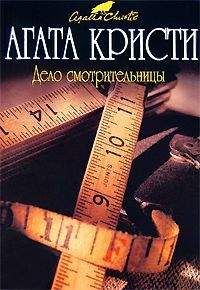Иван Свистунов - Все равно будет май
Потом, вспоминая те первые недели на фронте, Нонна знала: спасла ее Мария Степановна Афанасьева. Она была не только ее начальником. Она была ее другом, учителем, опорой, совестью.
В те дни Нонна не переставала удивляться, завидовать Марии Степановне, восхищаться ею. Столько силы, мужества, выдержки и характера оказалось в маленькой и с виду такой слабой, домашней и мирной женщине. По семь, восемь, а то и больше часов стояла она за операционным столом. Гас электрический свет, чадили керосиновые лампы, а то и просто коптилки, взрывная волна вышибала рамы. Окна забивали фанерой, закладывали соломой, раненых для операции укладывали на обыкновенный деревенский стол. Все валились с ног от усталости. А Мария Степановна продолжала колдовать над распластанными стонущими или полумертво молчащими телами. Подавляя подступающую к горлу тошноту, стараясь преодолеть дрожь в ногах, Нонна делала все, что ей приказывала Мария Степановна.
В первые дни, во время наступательных боев под Москвой, когда без конца поступали в медсанбат раненые, Нонна едва не падала в обморок. Бледнела, все в глазах туманилось, уходило куда-то покачиваясь… Но нашатырный спирт и властный окрик Марии Степановны приводили ее в чувство. И она снова слышала короткие, энергичные приказания:
— Скорей! Не спи! Живо!
Зима сорок первого и сорок второго года была самой трудной в жизни Нонны. Медсанбат следовал за наступающими войсками. На новых местах их чаще всего встречали одиноко торчащие среди пепелищ закопченные печи, снег, мороз и непрекращающийся поток раненых. Однажды медсанбат разместился в неизвестно как уцелевшем двухэтажном здании, где до войны было какое-то районное учреждение. Но что это было за здание! Стекла выбиты. Рамы, двери сорваны, деревянные полы разобраны для отопления. В комнатах даже днем еле теплились самодельные коптилки. Раненые лежали на соломе во всех комнатах и коридорах, пронизанных ледяным январским ветром. Вода замерзала в микстурах и примочках. Дымили «буржуйки», ядовитый чад смешивался с больничными невыносимыми запахами.
В те дни Нонна ни о чем не думала, ничего не вспоминала, словно одеревенела. После дежурства шла в каморку, где вповалку спали медсестры, как куль, валилась на нары прямо в шипели и валенках и погружалась в тяжелый, неосвежающий, без сновидений сон. Все прошлое тогда казалось неправдоподобным, придуманным, как сказки: и Москва, и родные, и Сергей…
Весной, когда фронт остановился и перешел к обороне, стало легче. Раненых теперь поступало мало, разместились просторно в большом, почти уцелевшем селе. Оживились, словно вспомнили, что они женщины, санитарки, медсестры, врачи. Зачастили в ларек военторга, покупали туалетное мыло, духи, губную помаду, пудру, зеркальца и расчески. Вместо суконных солдатских шаровар и стеганых ватников появились короткие в обтяжку синие юбки, шерстяные защитные гимнастерки, перехваченные командирскими портупеями. Пилотки теперь кокетливо сидели на вымытых и причесанных волосах.
Начались первые романы. Жизнь есть жизнь!
То влюбится молоденькая медсестра в лихого капитана разведчика с рукой на перевязи, с щегольскими усиками и орденом Красного Знамени на груди, то не явится вовремя на дежурство смазливая разбитная санитарка, задержавшаяся в соседнем лесу, где обосновалась артиллерийская бригада РГК.
Появились первые секреты, слезы, ревность и приказы с взысканиями за нарушение воинской дисциплины и правил внутреннего распорядка. Тогда-то все чаще и чаще стало повторяться, вошло в быт выражение: «Война все спишет!»
Вначале Нонну только сердило это выражение. Потом она его возненавидела. Ей представлялось, что за тем великим, горьким и кровавым, что было войной, прячется маленькое, блудливое, подленькое. Она не знала, где родилась такая оправдывающая и извиняющая формула. Может быть, привезли ее из тыла, где, надрываясь, тянули страну к победе одинокие безмужние женщины? Или родилась она здесь, на передовой, под огнем, где каждая встреча, каждая ночь, каждый поцелуй могли быть последними?
— Война все спишет!
Нонне приходилось слышать эту фразу от солдат и офицеров, от раненых и здоровых. Произносилась она по разным поводам, но чаще всего касалась взаимоотношений мужчины и женщины. Все на передовой временное: землянка, траншея, палатка медсанбата, жизнь… Вот окончится война, все определится, утвердится, станет на свои места. А что было раньше, на передовой, на стыке жизни и смерти, все спишет война.
Кто виноват, что родилась такая трусливая философия? Кто виноват, что миллионы мужчин, главным образом молодых, оставив в тылу жен, невест, живут без любви и женской ласки? Кто виноват, что женщины, главным образом молодые, попадая на фронт, оказываются окруженными тысячами мужских любопытных, жаждущих, влюбленных глаз? Виновата война! Пусть она и списывает!
Два раза Нонна едва сама не повторила противную, претящую ей низменную мудрость:
— Война все спишет!
…Летом сорок второго года их дивизия стояла в обороне на Смоленщине. Однажды в медсанбат привезли раненого летчика лейтенанта Юрия Глебова. Он летал на связном самолете У-2, который все называли «огородником». Юрий пролежал в медсанбате недели две. Все это время он говорил Нонне обычные вещи, которые говорят мужчины: холост, никого еще не любил, она поразила его с первого взгляда и теперь он будет любить ее всю жизнь. Рыжеватый блондин с бронзовым от загара лицом и лукавыми карими глазами, Юрий всегда был навеселе: или каким-то образом доставал спирт здесь, в медсанбате, или приносили водку посещавшие его товарищи.
Нонна смеялась над любовными полушутливыми, полусерьезными признаниями Юрия, не верила ни одному его слову. Но с ним было весело и легко. Вероятно, потому, что Юрий сам обо всем говорил легко и весело: о прошлой школьной и курсантской жизни, о полетах на «огороднике», о своей — до гробовой доски — любви к ней.
Из рассказов посещавших медсанбат друзей Юрия она знала, что однажды он на «огороднике» уничтожил вражеский истребитель. Гитлеровский летчик, заметив «русфанеру», бросился вдогонку. Но Юрий летел то у края леса, то спускался в овраг, то стелился по самой земле. В конце концов гитлеровец не рассчитал и в азарте погони на большой скорости врезался в опору высоковольтной передачи. Когда Юрий посадил свой У-2, то вся его машина была пробита пулями.
Юрий, как и другие, тоже любил беззаботно повторять: «Война все спишет!», но в его устах, освещенных лукавой жизнерадостной улыбкой, подленькое выражение звучало лихо, без цинизма.
Недели через две после выписки из медсанбата среди бела дня на деревенской улице, рискуя разбиться о тополя и телеграфные столбы, сел «огородник». Весь медсанбат — и обслуживающий персонал, и ходячие раненые — выбежал на улицу. Такого еще не бывало. Нонна похолодела, когда увидела самодовольного, сияющего Юрия, вылезающего из самолета. На глазах у изумленных зрителей он, растянув в улыбке рот, направился к Нонне, торжественно, как на свадьбе, держа в рунах букетик незабудок.
— Нонночка! Прилетел я к вам с приветом, рассказать, что солнце встало! — и галантно протянул букетик.
Нонна чуть не сгорела от стыда, не могла произнести ни слова. А тут еще примчалась Мария Степановна, как крыльями, взмахивая полами расстегнутого халата. При всей своей уравновешенности и деликатности она не могла стерпеть такого воздушного хулиганства и набросилась на летчика, посулила немедленно доложить начальству о его возмутительном озорстве. Юрий с самым невинным видом смотрел на разгневанного военврача, проговорил с лукавым мальчишеским ухарством:
— Дальше фронта не пошлют!
Помахав рукой Нонне, взобрался на свой самолет, и машина стрекозой запрыгала по выбоинам деревенской улицы, разгоняя кур и собак. Самолет поднялся в воздух, сделал несколько кругов над домами, чуть не цепляясь колесами за крыши, приветственно покачал крыльями и улетел в небесный простор, такой же синий, как и привезенные Юрием незабудки.
Ставя в стакан букетик, Нонна подумала, что могла бы полюбить такого веселого, озорного человека с распахнутым, как окно в весенний сад, сердцем. И еще потому, что его улыбка, беззаветное обожание напоминали ей Сергея Полуярова.
Прошло несколько дней, и в медсанбат приехал летчик, совсем молоденький, почти мальчик, даже удивительно было видеть на нем летные петлицы и кубики старшего лейтенанта. Он протянул Нонне погнутый самодельный портсигар, на крышке которого было вырезано ее имя.
— Юрий разбился третьего дня, когда ночью возвращался из партизанского отряда. Осколок зенитного снаряда угодил в самолет. Бог весть как удалось ему на изувеченной машине перетянуть через линию фронта. Самолет рухнул между нашими траншеями. Только портсигар, пожалуй, и уцелел. На нем ваше имя. Мы и решили… Он вас очень любил…