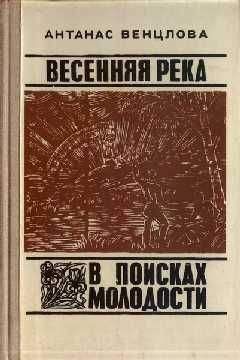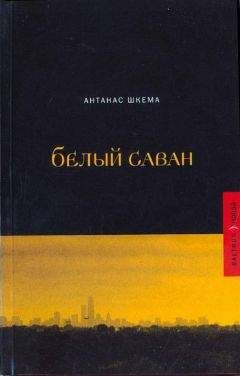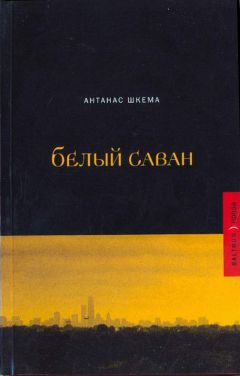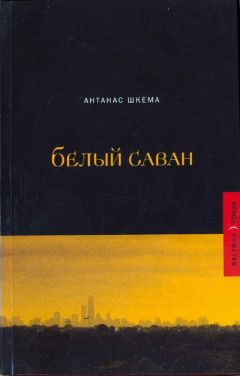Антанас Венцлова - Весенняя река
— Видишь ли, поэзия должна прокладывать новые пути! Надо писать так, как никто еще не писал…
Мы уже были друзьями, когда в Каунасе начал выходить литературный журнал «Чтения». Редактировал его писатель, которого мы просто почитали, — Винцас Креве-Мицкявичюс. О, как ждали мы каждую новую книжку журнала в мягкой зеленой или розовой обложке! Журнал хоть на несколько дней утолял наш читательский голод. Правда, далеко не все нам приходилось по вкусу. Попадались стихи и рассказы скучные, толкующие о непонятных и неинтересных материях. Но бывали там и замечательные. Мы впервые прочитали в журнале несколько новых рассказов В. Креве, повесть «Дяди и тети» Вайжгантаса, из него мы узнали о Рабиндранате Тагоре, о Ромене Роллане. Затаив дыхание, следили мы за литературными спорами. Особенно интересно было, когда критики говорили о уже известных нам книгах. Мы понимали не все, но все занимало и привлекало нас.
Мой друг читал «Тропы богов» Балиса Сруоги, напечатанные в этом журнале, и говорил:
— Умело, образно пишет! И звучит просто, как песня… Посмотри, тут про любовь. А вот — картина природы:
Луна внезапно
Лучами липу
Посеребрила.
Там запах мяты,
Укропа, тмина,
Рябины тяжесть.
Я как верба, что с рассвета
Солнца ждет, а солнца нету.
Кличу в поле — нет ответа…
И брожу в полях один,
Одинокий властелин.
Звезды падают вдали…
Примерно тогда нам в руки попала на редкость занимательная книга — поэтическая антология «Первые венки». В ней были поэты знакомые и такие, о которых мы почти и не слышали. Были и портреты всех этих поэтов. Прекрасно! Стихи, ясное дело, разные — одни запоминаются, другие тут же забываешь. Особенно нравились мне тогда, помню, Казис Бинкис и Юлюс Янонис.[58] По правде говоря, книги обоих поэтов и раньше попадали к нам, но все равно и теперь я читал с радостной улыбкой «Шелковистые тучки», «Травы из сена». А стихотворения Юлюса Янониса потрясали трагизмом и сочувствием к беднякам. Мы перечитывали сурового и отважного «Кузнеца»:
Видишь сам, — я кую. Так ступай себе прочь!
Недосуг мне с тобой толковать.
Кошелек твой набит — можешь вдоволь зевать,
Ну, а я, — мне невмочь нищету перемочь,
Хоть кую — день и ночь, день и ночь!
………………………………………………………
Да, он рад! Хо-хо-хо! Будет рад он вдвойне,
Когда ярость охватит людей,
Когда вырвемся мы из когтей богачей…
С ним в тот день потолкуем о нынешнем дне!
Хо-хо-хо! Будет рад он вдвойне.[59]
Мой друг еще с Москвы знал подробности о жизни Юлюса Янониса и обстоятельства его трагической преждевременной кончины. Может быть, поэтому до слез трогало нас стихотворение, которое иногда пели на мариямпольском кладбище, на похоронах революционеров:
Не плачьте над прахом друзей боевых,
Героев, служивших народу.
Мы скажем сурово за нас и за них:
Мы счастливы пасть за свободу!
………………………………………………………
Мы живы борьбою — о гибели нам
Ни думать, ни петь не пристало.
Воздвигнем же памятник павшим борцам —
Свершение их идеала!
Да, это удивительный поэт, и он так отличается от других! Все поэты показывают в своих стихах мир красочным, ласковым, без горя и забот, мир, в котором нет борьбы, только любовь, песни, грезы. А Янонис пишет о нищете, горе, и просто удивительно, как все эти невзгоды жизни человеческой не надломят его — он верит в победу и заражает этой верой читателей.
Может быть, мы и не точно этими словами оценивали тогда поэтов, но они нам нравились. Мы то и дело повторяли полюбившиеся строфы — они выражали состояние нашей души, тоску по прекрасному, наше неуемное желание расти, мужать, бороться против несправедливости.
Каждую неделю мы с нетерпением ждали небольшое, в четыре листочка желтой бумаги, приложение к газете, хоть сама газета нас и не интересовала. Приложение называлось «День седьмой». В нем попадались короткие рассказы и фельетоны, критические статейки, переводы.
Но особенно привлекала нас диковинная поэма «Шапшарарап», печатавшаяся из номера в номер. Нас поражал не только заголовок, но, пожалуй, еще больше — содержание и форма этого сочинения. Возьмем хотя бы такую «Идиллию»:
В полночь
Клювобородый дармоед
Прибашмачился, ошапкился,
В сени выперся
И завопил:
— Кис-кис-кис-кис! —
Кошка пятки выхвостила,
Усы выпучила.
Мышку костеня,
Отрычала:
— Ням-ням-ням-ням…
………………………………………………………
Башмакошапкоклювый выязычил:
— Жри и мри,
Мышей я сам очертеню. —
Сто минут
Дармоед кискисил, кошка нямнямила.
Тишь звуками искрилась.
Нервы словами бухли.
Лишь когда петухи кукарекали,
А луна зенит меряла,
Дармоед и кошка —
Кто насловев,
Кто намышившись —
В соннолежбище вернулись.
Или, скажем, там был напечатан такой «Жирносум»:
Округлый жирносум
Отрубкил зубы,
Губами дым позигзагивает
И клювотростью
Ящерохвостой
Брильянтинит тротуар…
— Это — футуризм, — сказал мне мой друг. — Новые слова, новые образы… Это, скажу я тебе, братец, не Майронис…
Потом возник «Предвестник четырех ветров», а позднее появились и «Четыре ветра». Они призывали творить новое искусство, и многие произведения в этих изданиях своей вычурностью, диковинными словами и чудовищными образами сильно смахивали на «Шапшарарап». Нравилось ли нам это? И да, и нет. Нравилось потому, что было ни на что не похоже (а все, что внове, всегда нравится молодым людям). Не нравилось потому, что многого мы не понимали и — главное — не знали, в чем смысл всей этой затеи. Казалось, будто поэты и прозаики хотят просто поиздеваться над своими читателями.
Между тем мой друг сам давно уже писал стихи и прозу. Мне он показывал не все, но я знал, что он пишет и что его стихи напоминают Балиса Сруогу, а проза — «Предания Дайнавского края». И вот как-то, получив один из каунасских журналов, я открываю первую страницу, а на ней — стихотворение Казиса Боруты,[60] напечатанное довольно-таки крупными буквами! Сейчас я уже не помню содержания, знаю только, что там была строка: «Прощай, — ответил князь». Вообще-то стихи были патриотические, чем-то связанные со сражениями под Сейнами, которым все не было конца. Под ними значились слова «Действующая армия». Когда я спросил своего друга, при чем тут «Действующая армия», он мне ответил:
— Видишь ли, теперь многие делают такую приписку! Отчего бы и мне не написать?
— Но ты же не в армии…
— Неважно… Пойми, это важно не мне, а читателям.
Ясно, мой друг лишний раз возвысился в моих глазах. Он был больше начитан, хорошо владел русским, долго жил в Москве, а теперь вот уже и напечатался!
Неудача со стихами, которые я так торжественно читал своему другу на берегу Шешупе, надолго отбила у меня охоту что-либо писать. Но все, что мы читали, чем бредили, пример друга, наконец, заставляли снова браться за перо.
К тому времени я уже переехал в мезонин на улочке Пятраса Кряучюпаса. В этом доме когда-то жили писатели Пятрас Арминас и Пятрас Кряучюнас.[61] Мое окно заслоняла кровля соседнего домика, и даже днем в ней стояли сумерки — солнце никогда не заглядывало ко мне.
Улучив свободную минуту, я снова садился за тетрадь и писал, писал, писал… Что же я все-таки писал? Без сомнения, на меня влияли многие поэты, так что мои стихи были похожи то на Майронпса, то на Сруогу, то, наконец, на «Шапшарарап».
Но боже ты мой, до чего они были тусклые по сравнению со стихами известных поэтов, какие громоздкие фразы рождались из-под моего пера, до чего неуклюжие рифмы вертелись в голове и лезли на бумагу! Иногда полдня прошагаешь по городскому саду или вдоль реки и вроде что-то выдумал, а вернешься домой, сядешь за тетрадь, и такие строфы поползут, что самому стыдно. И уже видишь, что в них нет ни крупицы оригинального, — сплошь чужие мысли, да и форма оставляет желать лучшего. И иногда такая тоска берет, что хоть под землю лезь. Кажешься себе дураком без малейших способностей, знаешь, что все это не для тебя, а ведь все равно тебя стихи засасывают. А изредка, гляди, у тебя получается даже некое подобие стихотворения, ты читаешь его себе великое множество раз, и вот уже кажется, что ты не без способностей, что еще сможешь написать что-то самостоятельное. А потом снова мученья и уныние…