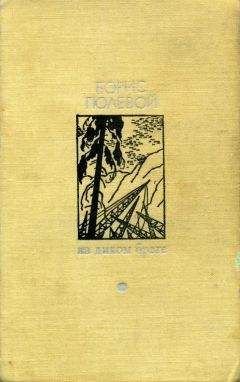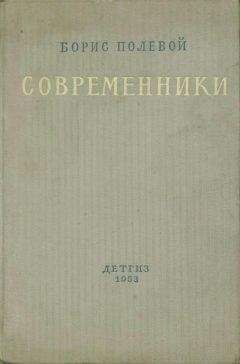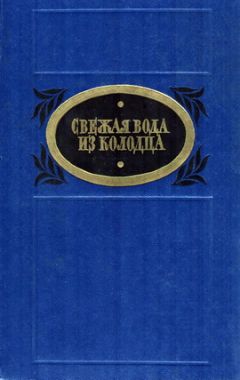Борис Полевой - На диком бреге
Женщина старалась уснуть, чтобы утром проснуться раньше всех, накормить ребят, отправить их в школу, убраться, приготовить обед. И Капанадзе удивлялся, даже взволновался, когда увидал однажды Ганну у двери своего кабинета среди людей, ожидавших приема.
— Друзья, это супруга Поперечного. Извините, я уж ее вне очереди пропущу, — сказал он, открывая дверь. — Прошу вас, Ганна Гавриловна. — И, еще не дойдя до своего стола, спросил: — Ну что случилось, дорогая, с мужем или дома?.. Да вы садитесь, садитесь, прошу вас.
— По пути я, с базара, — смущенно ответила женщина и подняла вверх авоську, из которой из каких-то свертков торчал рыбий хвост. — И дома все ладно, спасибо. — И зачастила: — Вчера деверь мой, Борька, к девчонке он одной ходит, рассказывал: дюже погано люди живут в иных палатках. У этих девчонок брезент кое-где разлезся, ветер задувает, и не только его милая, все бюллетенят. — Выпалив все это, Ганна передохнула. — Помните, зимой вы к нам заходили. Или уже забыли разговор-то?
— Да как же забыть? Но у вас такая беда, решили мы вас не беспокоить.
Капанадзе со смущением смотрел на маленькую женщину, скромно сидевшую у стола.
— Обсуждали мы. Кое-кому всыпали; Поручили комсомольцам начать поход за здоровый быт. Профсоюзы тоже…
— Уже начали: плакатики висят. На нашу землянку тоже прибили, да так, что пол-окошка загородили. «Строителям коммунизма — здоровый быт»… Свет застит, а снять боюсь: наглядная агитация. — И, переложив авоську с колен на стол парторга, Ганна приглушенным голосом, будто сообщая страшную тайну, сказала: — Так материи они не стоят, на которой писаны плакатики эти, Ладо Ильич. Иней они берегут, если в палатке сыро. — И тут же спохватилась: — Зви-няйте на глупом бабьем слове.
Парторг все с большим интересом слушал эту «уютную», как он про себя определил, женщину. У самой горе, а заботится о других. Ничего в беде своей не попросила. «Не надо, все есть, люди добрые не оставят…» А тут вон прямо на горло наступает.
— …А комендант наш, что военная косточка, привык: подметка оторвалась — АХО выдаст, Военторг подобьет… Старательный, а что он может один? Я ему тут насчет этой палатки шум-нула, где девки-то бюллетенят. Гляжу, на следующий день сам цыганской иглой полотнище штопает. Дело это? Порядок это?
«И как она правильно о людях судит, эта почтенная Ганна! — думал парторг. — Н-да, то плачет из-за какого-то коврика, а теперь вон партком учит».
— Я ведь тоже военная косточка, — сказал он вслух. — Подо мной еще тоже не земля, а палуба… Насчет коменданта вы, между прочим, правы. Ну, а что вы парткому посоветуете?
— Я? — спросила женщина и, вдруг густо покраснев, опустила глаза. — Я же беспартийная, Ладо Ильич, какое я имею право тут у вас советовать?
— Так пришли же вы в партком?
— А куда? Жалко ж. Такие здоровенные девки, звиняйте на худом слове, кобылы, пола не помоют, за собой не подметут, полог палатки зашить не могут, и комендант у них с цыганской иглой возится. Небось на своем чулке петелька спустится, сейчас ее прислюнит да скорее поднимать. А тут палатку им мужик будет штопать.
Женщина помолчала, будто собираясь с духом.
— …Худо это, Ладо Ильич, и я считаю, вы, коммунисты, в этом виноваты. Энта, милая-то нашего Борьки, — у вас кандидат, а ей и в башку не приходит своих девок организовать. — И Ганна снова, как гвоздь вбила: — Худо это!
— Да, да, конечно. Вы правы, коммунист, он должен… — Капанадзе чувствовал непривычное смущение. Визит был не только неожидан, но и необычен, и отвечать на эти претензии общими фразами было неловко. — Так что же вы посоветуете парткому? — повторил он.
— А забыли вы наш зимний разговор?.. Давайте мне комиссию, и не каких-нибудь там секретарей-председателей, а баб погорластее. Сама их подберу. Мы быстрехонько все свинюшники порасчистим…
Состоялось в этот день новое объединенное решение парткома, профсоюза и комитета комсомола. И необыкновенная комиссия, улучив предвечерний час, когда большая часть населения Зеленого городка бывала дома, двинулась по палаткам. В руках у Ганны была пачка жилищных жалоб, собранных ею в различных организациях. Вслед за комиссией робко двигался комендант, совершенно потерявший свою военную выправку.
Комиссия, гомоня, бесцеремонно входила в палатку, зажигала свет. Застигнутые врасплох обитатели, кто был в исподнем, спешно ныряли под одеяла.
— Куда? Ошалели?.. Нельзя, не видите — люди раздевшись…
— Нам можно, мы комиссия… Нужно нам на вас глядеть… Грязных подштанников не ви-дели…
— Отвернемся, одевайтесь да докладывайте, почему у вас эдакая помойка? Почему вон сосульки бородой в углу? Почему не топлено? Ну, кто тут из вас письмо в партком писал? Не убирают за вами, за гигиеной не следят… Барашкин? Где он, Барашкин?.. Ага, ты Барашкин. А ну, голубь, вылезай из-под одеяла, покажись!
Появление комиссии производило впечатление урагана, какие порой в этих краях налетают точно бы невесть откуда.
— Это ты, Барашкин, жалуешься, тебе чистоты не хватает? — шумели крикливые женские голоса. — Он, видите ли, недоволен, а взять веник, подмести — он хворый.
— Да вы что, очумели? — таращил глаза Барашкин. — С чего это я буду тут подметать? Я по договору приехал, меня администрация всем обязана обеспечить.
— Строительству рабочие для дела нужны, а не за такими, как ты, с бумажкой ходить, вытирать вам…
— Ах вы нехлюи, техтюи!.. По пояс в грязи поувязали, завшивели тут… Ишь чухаются, как поросята шелудивые, — гремела Оксана Ус, жена десятника, высокая, крепкая украинка, подружка Ганны.
В свою комиссию Ганна отобрала женщин боевых, из коренных строительных семей, привыкших к постоянным переездам, умевших, подобно ей, и в трудный период палаточного существования создавать какой-то элементарный уют. И так как члены комиссии за словом в карман не лазили, обитатели запущенных палаток сразу же превращались из жалобщиков в подсудимых. Судьи знали дело, имели опыт, обладали характером, звонкими голосами. Перекричать их было невозможно. Подсудимым оставалось только оправдываться:
— Вам хорошо зубоскалить, мужья-то из знатненьких, им поди ключики от квартир вручают, — пытался оправдываться какой-нибудь парень.
— Ключики? Ах, ключики! — возмущалась комиссия. — О Поперечном Олесе слыхал? Так тот самый Олесь по осени сам с сыном-мальчишкой две землянки вырыл — для себя и для своего экипажа. Своими руками, никому не кланялся. Просите у коменданта заступ — тайга вон она. Рой землянку — и будет тебе ключик.
— Вот вы пишете тут: «…тумбочки сломаны, бритву, мыло положить некуда».
— Ну а что, и сломаны. Вон они. Их только на дрова… От сырости расползлись… Комендант тут — опросите, сколько раз ему говорено, чтоб обеспечил…
— …Видите ли, это точно. Заявления поступали… — начал было комендант, но тощая, немолодая уже женщина, жена машиниста с электровоза, гроза всех торговых работников, язвительные остроты которой украшали многие жалобные книги, заслонила собой коменданта:
— А вы сами что, молотка, гвоздей не видали? Или тут принцы наследные живут? — кричала она. — Дома небось на шкафу фанерка отщепится, ты ее приклеишь, шкурочкой протрешь, маслицем помажешь. Так? А тут на глазах мебель, где твои шмутки валяются, разваливается, так тебе дела нет? Комендант, почини?
— Так оно ж казенное, на кой нам сдалось его чинить?
— Ах, казенное! Так пусть разваливается? Так? Лучше под кровати вещишки в узелке суну, чем за молоток возьмусь…
— Подумайте, люди, сами же себе жизнь поганите, — резонно говорила Ганна. — Выберите старшого, дежурства установите. У ребятишек вон, в детском саду, это заведено. Сходите, поучитесь… Ну чего молчите, языки поглотали?
И тут же смущенные общежитийцы выбирали старосту, назначали дежурных, только бы поскорее отделаться от зубастой комиссии. При этом уже миролюбиво говорилось:
— Чего вы к нам привязались… Что мы, хуже всех? Вы вон туда, под сломанную лиственницу зайдите, сороковой номер… У них вам и дверь не открыть — столько мусора.
— Зайдем, зайдем, ко всем зайдем. И к вам еще вернемся, глядите!
— А чего глядеть? Что мы, себе враги? Две смены отработаем, только чтобы с вами такими не встречаться.
Комиссия удалялась, продолжая поход, а кто-нибудь задумчиво говорил:
— А ведь они, пожалуй, правы, бабцы?
— Верно, надоело… Убраться, что ли?..
Особенно досталось женской палатке, где обитала симпатия Бориса Поперечного. Тут уж члены комиссии дали волю языку, и стенограмму их беседы с девушками, обитавшими здесь, можно было бы публиковать разве лишь с большими купюрами.
— …Ведь это ж ухитриться надо в палатке зимой клопов развести, — кричала жена машиниста. — И где вы только их вынянчиваете на таком холоду? За пазухой, что ли, или где поукромней?