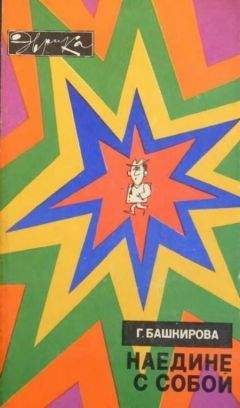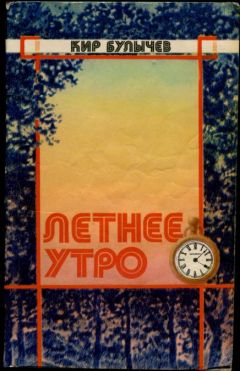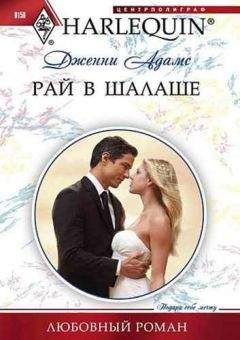Галина Башкирова - Рай в шалаше
Вера Владимировна была необычайно для нее откровенна и настойчива, — видно, впрямь на Танином лице отражалось то, чему бы лучше не отражаться, и Верочку выпадение Тани из общего благополучного фона начинало беспокоить.
— Таня, детка, меня даже шеф вызывал: «что с Татьяной Николаевной?» — так прямо и спросил. Как нам всем повезло! Такой чуткий, милый человек! — Верочка прикрыла глаза и слегка покачала головой, очевидно готовя Таню к долгому нравоучительному и, скорее всего, тщательно подготовленному разговору, в процессе которого не ворвется с очередной бронзовой собачкой или полуметровой чернильницей, найденными на помойке, Коровушкин, не заморозит их серьезным своим видом Виктор и Ираида сладко не закудахчет, рассказывая о внучке, — никто сегодня не помешает, до конца дня суждено Тане пребывать в Верочкиной власти.
...Между тем все уже было готово к чаю: картошка в мундирах (Верочка сварила ее на плитке) остывала, выложенная на салфетку, докторская колбаса начинала подсыхать, и чайник электрический булькал изо всех сил. Очнувшись от экстатической паузы, должной изобразить волнение, восторг, серьезность осторожно затронутой темы — массу нюансов, не поддающихся расшифровке, Верочка заметила наконец, что Таня расстроена. Лицо ее внезапно сморщилось, она протянула было к Тане руку через стол, но рука замерла на полпути, увядшая рука с коротко подстриженными ногтями и стертым серебряным перстнем, Таня помнила его столько же, сколько помнила Верочку. Судорожная напряженность ее лица не проходила: казалось, Верочка с величайшим усилием пыталась вернуть лицо к привычно натренированному выражению бодрости, но ничего не вышло, борьба с собственным лицом кончилась поражением его хозяйки.
— Поверьте мне, нельзя распускаться, в жизни случаются более тяжелые ситуации.
Только всего и сделала Таня, что обещала Цветкову прийти. Что можно извлечь из минутного разговора? Вера Владимировна же глядела на Таню так, точно между ними был не обычный канцелярский стол с биркой на ножке, с подтеками от бесчисленных чаепитий, старый стол, который при очередной смене мебели лаборатория отказалась выдать жаждавшему списать его завхозу. А может, между ними как раз и был этот стол — нескладный, еще довоенный, неуклюже надежный, неудобно-прямолинейный?
— Оба они порядочные люди, оба вас по-своему любят, но не платите так щедро, деточка, надорветесь, — сказала Вера Владимировна. И дальше назидательно: — Помните, прежде всего вы — ученая! Это у простой женщины привязанности составляют все в жизни. Возьмите себя в руки!..
— Вера Владимировна, извините меня, но... разговор этот не ко времени, — попыталась перебить ее Таня.
— Не нужно так со мной, Танечка, — беспомощно заморгала короткими ресницами Вера Владимировна. — Знаете, вчера я возвращалась домой, и какой-то парень в электричке мне сказал: «Мамаша, не горюй, налить тебе из пузыря?» Понимаете, имелась в виду бутылка. Пожилая дама в шляпке вечером... одна... в пустом вагоне... И впрямь забавно, не правда ли? — Вера Владимировна взяла остывшую картофелину — желтизна с заметно проступающей синевой. Руки ее по цвету сливались с картофельной кожурой, повертела картофелину, словно пыталась обогреться, и снова заговорила, — очевидно, это было проще, чем молча зябнуть изнутри. — Домой я возвращаюсь часам к девяти, потом работаю до часу, потом немного читаю. Бьет два-три, я лежу и думаю: зачем? Помните, у Чехова «Три сестры» кончаются фразой: «Если бы знать!» — Верочка взглянула на Таню. — Ну, в самом конце, помните? Одинокая Ольга говорит, что пройдет немного времени и людям, быть может, удастся узнать, зачем мы живем и страдаем. Впрочем, не такая она одинокая, у нее были сестры и нянька... — Верочка осторожно положила остывшую картофелину на место. — Часы бьют, та самая зеленая кукушка, которую вы мне подарили, а я считаю удары и твердо знаю, что на вопрос чеховской Ольги не ответил ни один человек на свете. И не ответит никогда. И еще я знаю, что жить мне, в сущности, не для кого, а значит, не для чего.
— Вера Владимировна... — забеспокоилась Таня.
— Не перебивайте меня! Вы знаете, какие самые страшные минуты в сутках? Ну, отвечайте! — Она сделала паузу. — Не знаете! И слава богу. Вы ни дня не были одна. Раз не были, значит, ничего не знаете о жизни. О себе, Танечка, тоже. Поверьте мне! Что человек может знать о себе, если не испытал одиночества! Есть пять минут, которые я не переношу: без пяти час ночи кончаются передачи, в час возобновляются. Эти пять минут... я их жду заранее, и все равно каждый раз страшно... — Верочка горько улыбнулась. — Вы не думайте, я радио не слушаю, но мне нужен человеческий голос...
— Вера Владимировна!
— Подождите, я доскажу. Часам к пяти я чувствую, как сгущается в комнате тоска, накрывает с головой, живая, как человек: вот-вот убьет...
...Первый раз за столько лет Вера Владимировна заговорила о себе. Что бы ни случалось — даже когда она ломала ногу, и когда перевозили ее в новый дом, и когда праздновали ее пятидесятилетие, — она всегда вела себя так, что перейти назначенную ею самою черту казалось невозможно: спросить, как она себя чувствует, как спала ночь, как добралась домой накануне, — никому это и в голову не приходило. (Может быть, это привилегия молодости: все в тебе интересно всем вокруг, все взрослые жадно обо всем расспрашивают, а ты раздражаешься в ответ, не догадываясь, что это любопытство пройдет, едва ты постареешь...)
Однажды Петька позвонил матери в лабораторию: им задали записать десять пословиц и поговорок. В ответ на Петькин вопрос посыпалась разная знакомая мура, а Вера Владимировна сказала: «Было времечко, целовали в темечко, а теперь в уста, и то ради Христа». Ее присловье тяжело повисло в воздухе, и тогда Фалалеева, выхватившая у Тани трубку, продиктовала Петьке вечную истину насчет ста рублей и ста друзей.
...— Депрессия длится неделю, другую, третью. Забавно, я обхожусь без всяких препаратов, элениум, седуксен, их я не признаю, потом однажды наступает утро, и я говорю: «Хватит, либо надо жить как человек, либо не жить вовсе».
...Всегда повязанная напряженной готовностью к действию, теми быстрыми, мелкими, точными движениями, которые столь отличают людей, имеющих орудиями производства бумагу, скрепки, дыроколы, предметы трудные, требующие максимальной собранности и отработанного автоматизма, всегда ощущавшая себя сиюминутно незаменимой, Верочка сидела сгорбившись, и слова выговаривались ею медленно, без пулеметной готовности к процессу словоподчинения, словоделания, слововыполнения.
— Может быть, они вас не стоят, но не останьтесь в итоге одна как палец, Таня. Не повторите моей ошибки.
— У меня есть сын!
— Опять не то! — огорчилась Верочка. — У вас есть ваша наука! Вы ученая! Вы талантливый человек! Вы сами не замечаете, как много сделали за эти годы, — проговорила Верочка убедительным голосом. — Вам есть куда спрятаться! Это так важно! Это мало кому дано, вам не приходило в голову?.. — Верочка помолчала. — Хотя... я жалею, что не завела себе ребенка. Боялась, сама теперь не знаю чего, стыдно, мать-одиночка... в условиях нашего института. Что ж, вы приходите, подрастаете, умнеете на моих глазах, на моих глазах постарел наш шеф, но наука, — проговорила она с воодушевлением, — Большая Наука, она остается, и остается наше служение ей... Во всяком случае, хочется в это верить.
...За окном начинало смеркаться, только фиалки выделялись яркой чернильностью, и азалия на Верочкином столе розовела цветами. Она прилежно цвела всю осень — подарок профессора Цветкова ко дню Верочкиного рождения (у них с Цветковым свои отношения, независимые от Тани; Вера Владимировна перепечатывала всю Костину продукцию, не переставая громко восхищаться четким, изысканным почерком).
— Вы будете мне сегодня диктовать? — казалось, Верочка начала успокаиваться, она поднялась, выключила наконец чайник. — Мы с вами совсем заболтались, подумать только, не правда ли, детка? — посетовала она.
Таня в ответ промолчала, повертела кольцо с изумрудом, подарок Кости, подарил при Денисове в день ее 35-летия: «Непременно носи не снимая, мама говорила, оно приносит счастье»; муж спросил потом: «Как мне прикажешь в таких случаях себя вести? Что мне делать с твоим волшебником изумрудного города? Морду ему набить, что ли?..» Кольцо слишком свободно болталось на пальце, легко можно потерять.
И вдруг Вера Владимировна виновато посмотрела на Таню, и лицо ее снова сморщилось.
— Вы мне не верите, да, Таня? Я все время внушаю вам что-то не то? Не верьте, не верьте мне, вы правы! — и она вдруг зарыдала беззвучно, затрясла головой, и челка упала ей на глаза.
Таня вскочила, обняла, погладила Верочку по вздрагивающим плечам:
— Я верю вам, слышите, Вера Владимировна? — Таня затрясла ее за плечи. — Перестаньте!