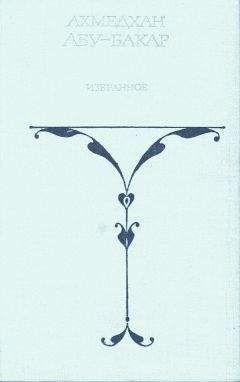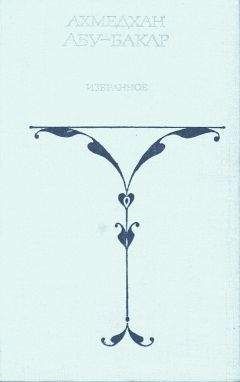Ахмедхан Абу-Бакар - В ту ночь, готовясь умирать...
— А ты откуда знаешь Салиха?
— Я? — изумился Кичи-Калайчи. — Да это ж мой ученик! Из этих вот рук ремесло получил!
— Выходит, главного не знаешь: Салих — большевик!
— Кто? Этот батрак-поденщик?
— Ах, так заговорил? Нет у меня ничего! Иди, дорогой!
Давла-Мустафа засеменил к порогу дома, но Кичи-Калайчи в два прыжка догнал его и вцепился в тощее плечико:
— Ты что? Поиграть захотел? То «нет оружия!», то «есть оружие!», то гудишь: «Сюда привязывай!», то ревешь: «Иди, отвязывай!» Не морочь голову! Скажи сразу: есть у тебя оружие или только гром в глотке?
— Зачем тебе оружие?
— Воевать иду!
— Позволь спросить: с кем?
— Откуда я знаю, как их зовут?! Со всеми богатеями.
— Прямо надо говорить: «Иду бить мироедов».
— Пожалуйста: иду бить мироедов! Слушай, будь человеком, объясни, как узнать, кто мироед, а кто — нет? Невинного боюсь застрелить…
Давла-Мустафа задумался. Потом прикрыл рот ладошкой и сказал:
— Пожалуй, тебе лучше так поступать: встретишь человека — первый спрашивай: «Земля у тебя есть?» Если в ответ рассмеется, скажет: «Откуда у бедняка земля!» — значит, не мироед. А если нахмурится, вскинет винтовку — тогда все дело решит скорость, кто быстрее выстрелит.
— А если меня убьют?
— На то и война.
— Теперь — ясно. Неси оружие.
— Сейчас, вот только дело какое: ружья у меня нет. Остался один маузер и двадцать три патрона…
— Если патроны не холостые — и маузер годится.
Хозяин бросил перед бычком охапку прошлогодних листьев кукурузы, метнулся к порогу и сразу выскочил обратно.
— А стрелять умеешь? — Давла-Мустафа подал лудильщику маузер в блестящей деревянной кобуре.
Кичи-Калайчи внимательно осмотрел рукоять, украшенную насечкой, вскинул маузер и, не целясь, выстрелил в горшок, опрокинутый на жердь для просушки. Посыпались черепки. Хозяин уважительно подхватил стрелка под локоть и повел к воротам:
— Не трать зря патроны, дорогой. Теперь их осталось двадцать два… Тебя как зовут?
— Кичи-Калайчи. Побереги бычка. Прощай!
— Доброй дороги! — в полный голос сказал Давла-Мустафа, и его напутствие усилило эхо: «…рой-ой! Роги-ро-ги!..»
Кичи-Калайчи успел спуститься в ущелье Маклатис, когда заметил: по верхней тропе летит конь, роняя пену. Белый конь со всадником.
— Победа! Наша взяла! — кричал всадник, сияя на солнце белой буркой с алым башлыком.
Лудильщик подошел к мельнице, которая давно не работала потому, что у людей не было зерна. Около разрушенной запруды стояли: мельник, старик с палкой-ярлыгой и хозяин осла, нагруженного хворостом. Все трое провожали взглядом всадника, который направил коня к вершине горы.
— Слышали добрую весть? — спросил подошедший лудильщик. — Советская власть уже победила!
— Я другое слышал, — сказал мельник, — в Маджалисе харбукинца повесили. Вверх ногами!
— Живого? — удивился хозяин осла.
— Мертвого — зачем вешать? Его хоронить надо… — объяснил старик с ярлыгой. — Если бедняки победили — это меня радует. Мой сын ввязался в драку за Советскую власть и…
— Как хорошо! Он там воюет, а ты здесь по дорогам разгуливаешь! — Кичи-Калайчи осуждающе оглядел старика. — Может, сыну помощь нужна, а ты…
Старик пристукнул палкой, выпрямился:
— Вот я и спешу на помощь! Интересно, куда это ты собрался?
— Я не «собрался», а уже шел воевать с мироедами. Оружие достал, а теперь слышу: победа, наша взяла. Прощайте, люди!
И Кичи-Калайчи повернул обратно на дорогу в Мозгараул, где получил маузер и оставил своего бычка.
Дойдя до ворот дома Давла-Мустафы, лудильщик позвал хозяина. Никто не отозвался, только бычок мыкнул, признав знакомый голос.
Лудильщик открыл ворота и подошел к навесу.
«Не успел к бою, успеть бы к пахоте», — подумал Кичи-Калайчи, отвязал бычка, той же веревкой обмотал деревянную кобуру, где дремал маузер, высыпал на сухие листья патроны.
Покончив с обменом, он вывел бычка за ворота и погнал в свой аул. Шел домой и мечтал: срубит ореховый ствол на соху, наконечник железный смастерит сам, зерно попросит в долг и засеет свое поле — все будет так, как решил, только не верилось: неужели будет есть Кичи-Калайчи свой хлеб?..
Обратная дорога — всегда короче; если голова полна радостных мыслей — и ноги не чувствуют усталости, резво вышагивают. Лудильщик и не заметил, как снова очутился у того самого родника, где простился с учеником Салихом. Все так же искрилась на солнце, приплясывая, чистая струйка, падая в каменную лохань, над которой склонилась лошадиная морда. Лошадь пила жадно, со всхрапом, и в такт глоткам то пододвигалась, то откатывалась арба, в которую была впряжена лошадь. На сене лежал раненый и тихо стонал. Кичи-Калайчи подошел и увидел Салиха Кубталана с перевязанной грудью, бледного, постаревшего на десяток лет.
— Сынок, где тебя ранили? За что такая беда свалилась? — участливо спросил Кичи-Калайчи.
— В последнем бою… Сначала мы их гнали… в ущелье. Потом… они сверху на нас… шашкой досталось мне.
— Как же так, Салих? Днем, я сам слышал, вестник принес радость: «Наша взяла!» — его голос горы подхватили, по всем аулам разнесли! За что так не везет беднякам?!
— Не горюй, старик! Повезет и нам! — к арбе подошел человек в кожанке.
Салих открыл глаза, покосился в сторону учителя:
— Ты… успел обменять бычка?
Кичи-Калайчи смутился, загородил спиной своего будущего пахаря. Но Салих уже не мог ничего заметить, побледнел, как бумага, в горле клокотало, не давало дышать. Руки Салиха, залитые кровью, царапали доски арбы. Не открывая глаз, Салих заговорил, торопясь, не проговаривая слова:
— Прости, учитель… Вот победим, много будет дырок в посуде… на наш век хватит, и котлы латать… и нас лата… Комиссар!
— Я здесь, Салих, — отозвался человек в кожаной куртке.
— Не забудь… Мозгараул… если не выживу, Давла-Мустафе передай…
— Молчи, друг! Куда торопишься? На Руси говорят: насильно душу не выплюнешь.
— И не задержишь… — прохрипел Салих, поднялся на локтях и упал, не досказав того, что хотел.
Кичи-Калайчи уперся подбородком в старенький бешмет, глаза зажмурил. Не молился старик, себя корил: плохо знал своего ученика, много ругал, а теперь поздно; рад бы сказать доброе слово, сто слов — да некому. Умер Салих Кубталан.
Могилу бойцу за Советскую власть в горах Дагестанских вырыли неподалеку от родника. А когда обложили камнями холмик, человек в кожанке и бойцы его отряда встали в изголовье и дали залп, — последнюю воинскую почесть бойцу Революции.
Утих скрип арбы, замолк стук копыт коней, а Кичи-Калайчи все не отходил от каменного холма. Не знал старик ни аула, в котором родился его ученик, ни рода, прославленного молодым защитником бедняков. Поднял плоский камень, на котором еще так недавно сидел, распекая Салиха, достал зубило и высек на вечной странице имя погибшего, а под ним нанес узор из нехитрых инструментов лудильщика.
Покончив с памятником, Кичи-Калайчи решительно посмотрел на бычка, лежавшего в траве. Тот понимающе кивнул головой и поднялся на ноги.
На заре следующего дня они снова стояли у ворот Давла-Мустафы, и снова никто не ответил на возгласы лудильщика. Кичи-Калайчи завел бычка под навес, отвязал маузер, а веревку накинул на шею бычка, подобрал все патроны. Открывая ворота, столкнулся с хозяином, спросил, вместо приветствия:
— Ты кто? Мироед? За маузер целого быка требуешь?!
Давла-Мустафа привстал на цыпочки, чтоб дотянуться до уха Кичи-Калайчи, шепнул:
— Завтра придет красный отряд. Чем буду людей кормить? Понял?
Выйдя к роднику, Кичи-Калайчи встал у могилы и дважды выстрелил из маузера в честь короткой, но так достойно прожитой жизни любимого ученика Салиха. А потом бережно пересчитал оставшиеся патроны. Ровно двадцать боевых патронов в серых свинцовых рубашках. Если целиться наверняка, двадцать мироедов можно заставить отдать землю тем, кто пашет и растит хлеб.
* * *Горы. Скалы и осыпи камней — горькая родина горца. Дороги упрямо карабкаются на кручи и скатываются в долины. Люди протаптывают дороги…
Сегодня базарный день. Если только холера вспыхнет — базара не будет, а так никакая война не в силах отменить базар. Горец семь драк пройдет, а доберется до базара, где продают и покупают, меняют и даже крадут. Здесь собираются всякие слухи, рождаются легенды, которые, спустя годы, станут былью, здесь услышишь правдивую историю, которой суждено обернуться легендой. Базар в горах — это целая академия народной мудрости и лукавства, опыта и надежд тех, кто пришел сюда продать первые абрикосы, сменять немного меду на пряжу для паласа или присмотреть барана на племя.
Энергично работая плечами и левой рукой — правая прижата к деревянной кобуре с маузером, — Кичи-Калайчи протискивается сквозь толпу и кричит: