Вадим Кожевников - Знакомьтесь - Балуев!
Балуев понимал, что сейчас он тут уже ничего не может добавить к сделанному, но подзадорить Фирсова и Сиволобова считал своим служебным долгом.
Солнце и стужа могут великолепно разукрасить самое неуютное место на земле. Ну, что здесь? Дрянь. Болото, гиблое, вонючее. Наступишь на застывшую, черствую корку грязи, так и прет начинка — трясина, теплая, лиловая, жирная. Болото накрыто гатью измочаленных бревен. Ворочается кран–трубоукладчик, кажется, что вся земля начинает под тобой трепыхаться. Глянешь вдаль: волосатые шишки кочек, всклокоченный кустарник, рыжая щетина камыша. Вот, пожалуй, и все подробности болотного пейзажа. А что сделали с ним стужа и солнце? Просто фантастика! Все блещет, все сверкает, а с каким вкусом и тонкостью отделаны изморозью бревна гати — чеканка из серебра! Застывшая трясина обрела сходство с базальтом, чернеет отполированной поверхностью, будто гигантское изделие треста «Русские самоцветы». Каждый кустик в ледяном чехле обрел сходство с люстрой, подобной той, которая украшала потолок столовой–ресторана районного центра. А кочки! Это же драгоценный мех, вроде горностая! Каждая камышинка обратилась в стеклянную нить — и все это на фоне неба чистейшей голубизны.
Красиво, очень красиво выглядела в данный момент природа! Но, не вполне доверяя ей, строители посыпали песком дорожки, идущие к машинам и к командному пункту, и для полноты картины водрузили красный флажок на оголовке дюкера.
Хотя дело происходило под открытым небом, люди разговаривали вполголоса, легко одетые, словно находились в закрытом помещении, а некоторые даже без головных уборов.
Во всем ощущалась торжественная напряженность.
Развернув свиток схемы протаскивания дюкера, последний раз сверяя чертеж с тем, что было в натуре, Павел Гаврилович никак не мог сосредоточиться на обозначениях на бумаге. Его не беспокоило, совпадает ли начерченное на бумаге с действительностью, — здесь все было правильно, его тревожило другое: не произошло ли за эти секунды что–нибудь такое, что могло нарушить самочувствие людей, от которых зависел исход операции. Может, следовало отозвать в сторонку Лупанина и, разговаривая о чем–нибудь постороннем, заглянуть в глаза, нет ли в них отчаяния, какое бывает у человека, отвергнутого любимой девушкой. А вдруг Шпаковский признался ему, что написал письмо Подгорной и сказал, что она дала согласие? Тогда катастрофа. Тогда Лупанину нельзя сегодня доверять машину. Ведь он крутился сейчас возле Капы, и она могла ему рассказать о письме со свойственной ей прямотой и откровенностью. Может, лучше спросить об этом Подгорную? Но после вчерашнего разговора уже неловко касаться таких вопросов. А вместе с тем так, как понимал свой служебный долг Балуев, ему надо было это выяснить, чтобы предотвратить опасность. Хотя, пожалуй, сейчас уже поздно…
С Вавиловым тоже следовало поговорить. Человек решил остаться на стройке — радость. А если Лупанин во время репетиций задел чем–нибудь самолюбие маститого механика и он сейчас обижен? А обиженный человек утрачивает инициативу и в ходе дела ничего не захочет подсказать Лупанину, когда тот будет нуждаться в совете.
Павел Гаврилович взял бинокль, нацелил сначала на Лупанина: «Нет, кажется, все в порядке». Лицо хищное, сосредоточенное, за лентой фетровой шляпы торчит, для лихости, что ли, какая–то веточка.
Если бы человека постигло горе, разве он стал бы себя так украшать? Конечно, нет. С чувством облегчения Балуев перевел бинокль на Вавилова. Сидит, развалившись, важный, губы оттопырены, правильно — оттопырены. Если обижен, он бы их поджал. Он всегда поджимал губы, если был чем–нибудь недоволен. Значит, здесь тоже все в порядке.
А вот Мехов. Вдруг опять из дома злобное, оскорбительное письмо и чувствует он себя сейчас бесконечно униженным и несчастным? Ну как взбодрить его, как?
Балуев долго смотрел в бинокль на лицо Мехова. Но Мехов привык к своему горю, трудно о чем–нибудь догадаться по его лицу. Нет, никак не поймешь. Да и где найти такое, чтобы утешить скорбящего человека, вселить в него надежду?! И Павел Гаврилович, не опуская бинокля, с досадой на себя думал, что следовало ему еще раз съездить домой к Мехову и осторожно, а не как прошлый раз, вгорячах, поискать возможность создать жизненное равновесие для этого столь ценного на строительстве человека, невзрачного по внешности, но наделенного великолепным даром понимать машину и нежно обращаться с ней, на что машина отвечала ему безукоризненным послушанием. Балуев напряженно, вдавливая до боли в глазницах окуляры бинокля, наблюдал за выражением лица Мехова, стараясь обнаружить то, что сейчас беспокоило его и тревожило.
Низкорослый, желтоволосый, с печальными глазами, униженный своим горем, Мехов не дружил ни с кем из крановщиков. Терехову он знал еще по фронту. Был водителем бензозаправщика в той части, где служила она. Здесь на стройке, он приходил в ее летучку–лабораторию, приносил конфеты «Клюква в сахаре» и говорил, застенчиво улыбаясь:
— Вот пришел повспоминать, как вместе служили.
Ольга Дмитриевна ставила на электрическую плитку чайник.
Мехов, сидя на табуретке и растирая колено ладонью, рассказывал ей:
— Девчонка от меня растет, очень даже замечательная. Прибуду к ней в отпуск, и каждый раз сюрприз: быстро в человека оформляется. — Вынимал пачку фотографий из пластмассового прозрачного пакета, раскладывал. — Вот она какая, во всех экземплярах! — Сообщал с гордостью: — И заметьте, папа вылитый.
Ольга Дмитриевна смотрела на фотографии, а Мехов, не зная, какую он боль причиняет, говорил добродушно:
— Человек без потомства — ноль без палочки. Я, главное, за нее теперь почему беспокоюсь? Чтобы войны не было. Война, первое, по кому бьет? По детям… Я человек смирный. Один раз только на фронте провоевал как следует. Зажгли немцы бензозаправщик во время налета на аэродром. Я из машины, понятно, не выскочил. Полный газ — и подале от самолетов. А меня как двинуло взрывом цистерны, я и воспарил: опалило! Хорошо, лужа рядом просторная оказалась. Вполз, обвалялся в грязи, погасил себя и выжил, а то сгорел бы до самого основания. — Пояснил: — Я это к чему. Если теперь… я же за свое дитя просто страшным могу стать.
— Войны не будет.
— И я так думаю, — согласился Мехов. — В таком случае, полагаю, дочка моя уже при коммунизме жить будет. Приятно. Радуюсь за нее, как подумаю.
— А почему вы на завод не устроились, чтобы с семьей жить? Скучаете ведь сильно без дочери?
Мехов задумался, потом объяснил:
— Я человек низкорослый, а жена у меня здоровая, я ей по плечо только. Но дочка меня выше матери считает. А за что? За то, что я ей рассказываю, как газопровод кладем и что это для родины значит. Ну, и выдвигает она меня над всеми. Даже в школьном сочинении отметила. Так и написала: «Мой папа — машинист на стройке семилетки». — Произнес мечтательно: — Одолею втихую вечернюю школу, подамся без отрыва в техникум. Стану начальником мехколонны, выпрошу от жены дочь за алименты, по соглашению, и заживу, как бог. Вот, значит, какая моя перспектива!..
Сейчас, сидя на кране–трубоукладчике, кончив позировать перед фотокорреспондентом, Мехов просил, наклонившись так, что почти вываливался из машины:
— Товарищ, сделай отдельно фотокарточку — дочери послать.
— Я вам пришлю два экземпляра газеты.
— В газете я мелкий получусь. А мне надо, чтобы внушительно.
Федор Филиппович Вавилов выслушал корреспондента, рассердился:
— Что значит «старый рабочий»! Вы это бросьте! Техника устаревает — это правильно. А ежели я на ней, а не на пенсии, как некоторые, — значит, нечего моими годами читателей в заблуждение вводить.
Кинохроникеров пленила внешность Лупанина. Но Лупанин объявил:
— Вот что, ребята, у меня под руками инструмент тяжелый. Если стукну, плохо будет.
— Вы в списке передовиков, вы обязаны сниматься.
— Я же объяснил, — взмолился Лупанин, — протащим дюкер, после всё инсценируем, как пожелаете. А сейчас не могу: у меня, глядите, лицо злое. Мы сигналы должны видеть, а вы тычетесь, заслоняете.
Собрав машинистов в сторонке, Лупанин сказал:
— Мне вам говорить нечего. Просто так, одним побыть, оглядеться.
Высушенный стужей воздух сверкал. Огромной реке, казалось, было туго в берегах, окованных ледяной кромкой. Посреди реки шатался на волнах понтон. Через него перекинуты стальные канаты; их тяжесть понтон облегчал свой плавучестью.
На противоположной стороне траншеи стоят цугом бульдозеры с высоко поднятыми щитами, блистающими пасмурного цвета сталью. От бульдозеров тянутся тросы, пристропленные к дюкеру.
Против каждого бульдозера кран–трубоукладчик, также пристропленный тросом к дюкеру.
Шесть машин, по три с каждой стороны, должны одновременно начать волочить гигантскую трубу, когда канаты, продетые в клюзы оголовки дюкера, натянутся шестью тракторами по ту сторону реки.
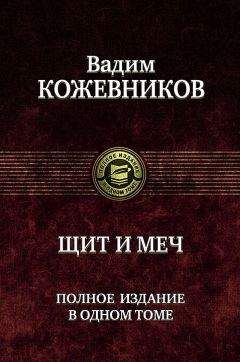
![Вадим Кожевников - Разведчики [антология]](/uploads/posts/books/24346/24346.jpg)

