Вадим Кожевников - Знакомьтесь - Балуев!
— У вас красота вызывает только хозяйственные идеи.
— Да ты что?
— Ничего, просто сказала правду.
Балуев сбавил скорость, спросил озабоченно:
— Может, ты не совсем здорова? — Положил ладонь на лоб Капы.
Она закрыла глаза. Лицо стало жалобным, губы дрожали.
— Да ты что?
— Уберите руку.
Подгорная повернулась спиной, скорчилась на сиденье. Балуеву показалось, что она плачет. Он остановил машину, вылез, зашел с другой стороны, открыл дверцу, сказал растерянно:
— Я же не могу машину вести, если рядом человек страдает. Объясни определенно, что случилось? Гололедица, а тут внимание раздваивать приходится.
— Ну да, — всхлипывая, сказала Капа, — вы же человек цельный и несчастных не любите.
Балуев деловито попинал скаты, сел за руль, сосредоточенно глядя перед собой, молча вел машину. Через некоторое время сказал с облегченным вздохом:
— Вот теперь дорога получше. Так отчего же ты несчастная? Если оттого, что твоя Пеночкина твердо нацелилась замуж за Марченко выйти, так не стоит. Подруги — существа непрочные. Может быть, тебе самой Марченко нравится?
— Еще чего не хватало! — возмутилась Подгорная и даже брезгливо передернула плечами.
— Напрасно. Человек он перспективный. Как он политически сильно талант Шпаковского в большое народнохозяйственное дело обратил! Приезжал тут один ответственный товарищ из сварочно–монтажного треста, поглядел, как Шпаковский без подкладных колец стыки варит. Пофыркал, назвал виртуозным номером, а не понял, что это сотни тысяч тонн металла стране, или просто не захотел понять. Новая технология! Зачем ему ввязываться? Он масштабами своего треста только мыслит, а вот рабочий Марченко — масштабами страны.
— А вы, Павел Гаврилович, когда–нибудь мысленно можете освободиться от стройки?
— Что значит «освободиться»? — сердито сказал Балуев. — Это же моя жизнь, мое удовольствие. Посади меня в учреждение, я там, в спертом воздухе, на корне сгнию. А здесь пространство, люди, всякие производственные неприятности, живешь на высокой скорости. Я даже мимо своего среднего возраста проскочил, а как — не заметил. Проснулся однажды, пощупал себя, гляжу — брюхо, сунулся к зеркалу — рожа пожилая, потасканная. Плюнул, конечно, символически, сказал сердито: «Я себя каким все время помню? Молодым. А другим помнить не желаю. Самовнушение — великая вещь».
— Вовсе вы не старый, — горячо воскликнула Капа, — и вид у вас хороший, как у моряка, который все океаны проплавал! И под воду вы в скафандре лазаете и оттуда по телефону ругаетесь, если что сделано не по–вашему.
— Ладно. Ты меня не успокаивай, — сказал Балуев, испытывая все–таки лестную для себя приятность от опровержений Подгорной. — Ты со мной не петляй. Говори прямо, что у тебя случилось? Почему при холодном лбе глаза воспаленные и носом хлюпаешь?
Капа склонила лицо и, нажимая кнопку замочка от крышки ящика, где шоферы обычно хранят обтирочные концы, произнесла шепотом:
— Я, Павел Гаврилович, влюбиться хочу так, чтобы всю себя забыть и жить только этим человеком.
— Ну что ж, валяй, правильно, — согласился Балуев. — Только в этом деле зачем же крайности? Ты себя все–таки помни. Ты девица важная, умок у тебя есть, специальность дальнобойная. — Объезжая выбоину, озабоченно прищурился, похвастал: — Видала, как вожу! Тоже кусок хлеба, если в случае чего.
— А в кого, вы знаете?
— Что именно? — спросил Балуев, шаря внизу рукой рычаги, чтобы отключить переднюю ведущую ось.
— Ладно, — сказала грустно Капа, — не хочу вас отвлекать, а то вмажетесь в столб, и я же буду виновата.
Приехав на переход, Павел Гаврилович немедля облачился в гидрокостюм, полез в узкую речушку, уже покрытую сизыми ледяными заберегами, обшарил обнаруженный под водой валун.
Выйдя на сушу, спросил Бекбулатова:
— Так что ты предлагаешь?
Рабочие столпились вокруг. Бекбулатов сказал:
— Подрывать надо. Пробовали тракторами оттащить — не получается.
Павел Гаврилович, видя, что напряженные взоры рабочих прикованы к нему, картинно задумался, хотя решение созрело у него еще перед отъездом, и вдруг объявил небрежно:
— Да закопайте вы его, сукиного сына, поглубже, туда, откуда он вылез. Вот и все дело. — И, наслаждаясь произведенным эффектом, спросил, будто ничто касающееся перехода его больше уже не интересовало: — Вы как, ребята, в кино «Балладу о солдате» видали? Советую поглядеть, душевная картина… — И стал рассказывать о фильме с таким воодушевлением, будто специально сюда для этого и приехал.
Павел Гаврилович любил театральность, любил, чтобы на него смотрели с восхищением и поражались легкостью, с какой он, вдруг будто чем–то внезапно осененный, принимал неожиданное, единственно правильное решение.
Конечно, никто не знал, что перед этим Павел Гаврилович звонил в Москву, разыскивал приятеля–инженера, который долго работал на Севере и немало помаялся с этими валунами, то корчуя их, то взрывая или при определенных условиях глубоко хороня в грунте. Мысль о похоронах валуна и была подсказана Балуеву этим приятелем.
Чтобы найти соответствующее решение, Павел Гаврилович порой перерывал десятки книг. И так бывало множество раз. Но не поддаться искушению и не выдать свое решение как техническую импровизацию он не мог. Ему хотелось, чтобы люди любили его, и добывал он эту любовь самыми различными средствами.
Когда Бекбулатов спросил:
— Ну, как на большом переходе? Правда, что четыре километра трубы ребята стране подарили? Выходит, теперь не двадцать шесть тысяч километров труб за семилетку проложим, а двадцать шесть тысяч и четыре. — Добавил скромно: — Мы со своей речушки тоже, конечно, внесем. Отказались от чугунных грузов, одели трубу в бетонные. Пришлось траншею против проекта поглубже и пошире под водой проложить, поэтому и на валун напоролись. Но ребятам приятно, довольны, что и от них личный взнос в семилетку поступил: чугун — тоже металл, и его тоже беречь надо.
— Молодцы! — сказал Балуев. — Работают шарики.
Бекбулатов пригласил Балуева отведать ухи. Балуев согласился, сказал хвастливо:
— Это правильно! У меня закон: с каждого своего водного перехода рыбу пробовать. — Пообещал: — Скоро из морской рыбы ушицу хлебать будем. И в Сибири нам предстоит из всех рек пробовать, и среднеазиатскую тоже. К концу семилетки смогу любого ихтиолога забить. Опутаем страну трубами не хуже, чем электроэнергетики проводами…
Он хлебал уху собственной деревянной ложкой, считая, что металлическая вкус портит. Шутил, велел пригласить «ее сиятельство» радиографистку Подгорную, которая успела за это время просветить стыки дюкера. На водку посмотрел скорбно, заявив, что хоть у него и любительские права, но терять их тоже не следует.
Несколько раз уже звонили с большого перехода, и, накрывая тарелку ухи другой тарелкой, чтобы не остывала, Балуев говорил то с Фирсовым, то с Сиволобовым. И каждый раз в конце разговора объявлял:
— Обожди, сейчас приду, вместе поглядим, — и говорил это таким тоном, будто находился рядом, в соседнем помещении, а не за сотню километров.
Ночь сверкала чистотой студеного неба, льдистой чешуей, изморозью леса.
Усаживаясь в машину, Балуев объявил, взглянув на месяц:
— Всего полкуска луны. Скажут еще где–нибудь, что советские остальную часть ракетой отшибли. А мы народ заботливый, даже дезинфекцию вымпела своего делали, чтобы, упаси бог, лунным жителям земного гриппа не занести. Вот до чего мы во всем предусмотрительные! — Напоследок приказал Бекбулатову: — Так ты поглубже могилку валуну копай, чтобы его не размыло и труба на жесткость не легла.
Протянул Бекбулатову через плечо руку, сел за баранку и дал полный газ.
Чуть погодя спросил Подгорную:
— Ну как, портреты всех стыков получились? Претензии есть?
— Шпаковский варил.
— Его ребята теперь Ван Клиберном зовут, — сказал Балуев. — Что ж, правильно: по своей линии виртуоз.
Капа сказала задорно:
— Зина считает, мне нужно за него замуж выходить!
— И то дело, — рассеянно согласился Балуев. — Он паренек серьезный. — Обгоняя грузовик, вобрал голову в плечи, сосредоточился, объявил счастливым голосом: — Вот мы его и обжали! Видать, лихач: девяносто давал, да еще по такой дороге!
— А если мы с вами убьемся?
— Происшествие будет.
— А мне было бы приятно вместе с вами убиться, — сказала Капа и повторила вызывающе: — Да, приятно! Потому что вы мне из всех больше всех нравитесь! Понимаете? Вы!
Балуев молчал и, казалось, не слышал слов Подгорной.
Машина мчалась стремительно. Покрытая изморозью, стена леса сверкала, сливаясь в сплошную блистающую полосу. Было такое ощущение, словно морская полупрозрачная высокая волна накатывала с обеих сторон на стекла машины. Белыми дымными столбами света фар машина вонзалась в мрак и неслась в нем в шорохе жестких снежных частиц.
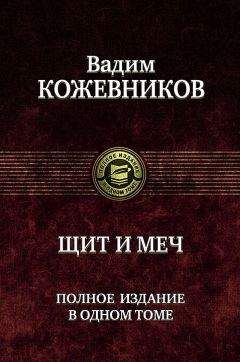
![Вадим Кожевников - Разведчики [антология]](/uploads/posts/books/24346/24346.jpg)

