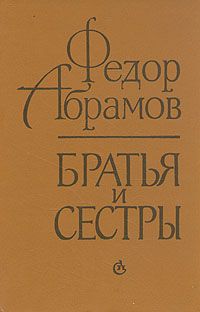Федор Абрамов - Пути-перепутья
– Чего теперь об этом говорить. Сама знала, какую ношу на себя брала…
Затем она с непривычной для него решительностью вдруг встала и уже сама, не дожидаясь его слова, начала накрывать на стол.
Да, думал Подрезов, лошадей знал. Лес знал. Коровники в колхозах знал. А вот что такое человек, душа человеческая… Э, да что там говорить! Жену свою, с которой прожил чуть ли не двадцать лет, не знал…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Последний раз по ночному райцентру, последний раз первым по своей деревянной столице…
Он даже шинель надел специально, которую года два уже не снимал с вешалки.
Шинель он завел сразу после войны. Длинную, чуть ли не до пят, с огромными отворотами на рукавах – единственную в своем роде во всем районе. Такую, какие носили еще в двадцатые годы и какие нет-нет да и мелькнут изредка в кино.
Несерьезно, ребячество это… Понимал, ежели говорить начистоту, чувствовал. Да после тех победных, ликующих маршей, которые с утра до ночи гремели по радио, так кружило голову, такая гордость распирала грудь, что хотелось всем существом своим, делами, даже видом своим утвердить богатырскую мощь родной партии. Тут, на месте, в далекой лесной глуши. Чтобы всяк – и старый, и малый – узнавал тебя за версту…
Ночь, глухая осенняя ночь стояла над райцентром. Ни единого огонька. Даже в недреманном ведомстве Дорохова ни одной светлой щелки, ни одного просвета.
Он любил эти ночные обходы своей районной столицы, любил торжественный гул деревянных мостков под ногами, любил ночную прохладу, которая так приятно освежает разгоряченную работой голову.
А еще любил он, шагая по райцентру, глядеть в южную сторону, туда, где за тысячи верст от Пинеги громадным костром в ночи пылает краснозвездный Кремль и где в одном из кабинетов мягко, бесшумно расхаживает человек, который держит в руках весь мир.
В позапрошлом году, когда он ездил на курорт, он все время мысленно разговаривал с любимым вождем. И вообще, увидеть Сталина было мечтой его жизни. И эта мечта, казалось, не так уж далека была от исполнения. Во всяком случае, Павел Логинович не раз намекал ему, что как только созовут съезд – а его ждали с часу на час, – его, Подрезова, непременно пошлют делегатом.
И вот – все. Ничего больше нет. Все перечеркнуто, все втоптано в грязь: и его жизнь, и его мечта. И он, который за ужином начал было вроде бы отходить, успокаиваться, тут снова разошелся.
За что? За какие такие преступления его гвоздили и поливали грязью? Их, видите ли, Подрезов гнул, ломал, жить им не давал… А себя Подрезов не ломал? Сам Подрезов в раю жил?
Он с ужасом думал о завтрашнем дне, о том, что жизнь района – всех этих леспромхозов, лесопунктов, колхозов, самого райкома – пойдет без него, Подрезова.
А как он встретится завтра с простыми людьми? Что скажет им в свое оправдание? В годы войны ребятишки целыми часами дежурили на дорогах, чтобы посмотреть, какой он, Подрезов, а как теперь? Как теперь посмотрят на него ребятишки?
Выйдя на окраину села, к полевым воротам, он подошел к изгороди, тяжело навалился на нее грудью.
Какое-то время он стоял недвижно, с закрытыми глазами, потом начал рыться в карманах, – может, от курева полегчает? Но папирос, которые он обычно носил с собой, на этот раз не оказалось.
На реке, где-то прямо под горой, за наволоком, звучно выговаривая плицами колес, шлепал, весь в огнях, пароход, а за ним тянулся еще пароход и еще…
Буксиры с грузами. Для Сотюги, для других леспромхозов…
Но не он, не он завтра будет отдавать команды насчет разгрузки, не он сломя голову полетит в Пекашино, чтобы на месте принять необходимые меры. Мимо, мимо него пойдет жизнь с завтрашнего дня. Так же мимо, как идут сейчас по реке вот эти буксиры…
Какие-то непонятные зарницы время от времени вспыхивали в ночном воздухе, какой-то сладкий дымок щекотал ему ноздри.
Что бы это такое? Не от пароходов же этот свет и этот дым?
Он протер ладонью мокрые от слез глаза, глянул в одну сторону, в другую и вдруг прямо перед собой в поле увидел красный мигающий огонек, а вслед за этим огоньком увидел другой, третий…
Да ведь это же ребячьи костры на картофельниках!
Боже, как давно не видал он этих костров! Где же он был все эти годы? Ведь ребята каждую осень, как только начинают копать картошку, зажигают костры. По всем картофельникам. И ни криком, ни руганью, никакой силой невозможно загнать их домой. Все вечера, а то и ночи сидят у огонечков, говоря по-местному, да пекут опалихи, то есть картошку.
Жадно, прямо-таки с наслаждением вдыхая в себя запах этих опалих, каким пропитан был весь воздух ночного поля, Подрезов подошел к костерку, вернее даже, к остаткам костерка, уже покинутого ребятишками, неумело опустился перед ним на корточки и вдруг почувствовал себя маленьким Овдей. И все, все – все обиды, все тяжелые переживания последних дней, ярость, ожесточение, – все отступило в сторону, и он вспомнил свое детство, свою Выру, на которой вот так же когда-то беззаботно сидел у костра.
Двадцать пять лет он не был на Выре. С тех пор, как уехал из дому с Еленой.
А почему не был? Почему каждый раз, когда подвертывался случай, уклонялся от поездки туда? Верно, дыра, глушь медвежья, зимой трое суток надо ехать на лошади… Да ведь ты же оттуда на свет вылетел.
Костерик благодаря его стараниям разгорелся заново. Алый свет мягко красил его склоненное над огнем успокоенное лицо, сложенные ковшом руки.
Да, да, думал он с облегчением, поеду на Выру, в родовое гнездо. Там с будущего года новый лесопункт открывается – сколько всякой столярной да плотницкой работы будет! Огляжусь, одумаюсь, а там посмотрим… Посмотрим…
И вдруг Подрезов резко выпрямился. А собственно, чего смотреть? Чего он раньше времени хоронит себя! Где решение обкома? Кто сказал, что ему конец? Северьяха Мерзлый, Митрофан Кузовлев, Санников, Фетюков… Да кто их когда принимал всерьез!
Он глубоко, всей грудью вдохнул в себя теплый ночной воздух, в котором все еще держался запах печеной картошки. И этим запахом позабытого детства, с вернувшейся радостью простора и воли начал мало-помалу оживать в нем пошатнувшийся было Подрезовский дух.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Анфиса Петровна пропадала в районе уже третий день. И третий день, подбегая в этот вечерний час к ее дому, Лиза надеялась увидеть ворота на крыльце без приставки. Больше того, ей даже представлялась такая картина: Иван Дмитриевич в обнимку с Анфисой Петровной встречает ее на крыльце. "Ну, спасибо, спасибо, Лиза, выручила. А меня вот, видишь, освободили…"
Но не спешили что-то с возвращением домой Лукашины. И, как вчера и позавчера, торчал в кольце ворот белый березовый колышек, который она сама втыкала по утрам, так он торчал и сегодня.
Лиза быстренько, за какие-нибудь полчаса, разделалась с Майкой, коровой Лукашиных, половину молока разлила по крынкам, а половину – в алюминиевое ведерко и забрала с собой.
Дома, конечно, стоял рев – с улицы слышно. Ревел Вася, ревел Родька, и сама нянька ревела.
Татьяна не маленькая кобыла – десятый год шел. Разве трудно после школы какой-то час с двумя ребятенками по полу поползать? Бывало, она, Лиза, в ее годы по целым дням за хозяйку оставалась – с оравой, на голодное брюхо, а эту Михаил испотешил – только и знает, что по улице бегать. "Ладно, пущай хоть у одного человека в пряслинской семье нормальное детство будет". Детство-то будет, а будет ли человек – это еще вопрос.
– Ты хоть бы огонь зажгла, – сердито сказала Лиза сестре. – Вот бы они и не ревели. А то в темноте-то и старик заплачет.
– Зажигала. Карасина в лампе нету.
– Карасин-то в сенях, за дверями. Отсохнут у тебя руки, ежели нальешь.
Засветив лучину, Лиза заправила в сенях лампу, а когда вернулась в избу, и след Татьянин простыл. Как, когда успела улизнуть? Через окошко? Так оно и есть. Через окошко. Крючок не в пробое – как овечий хвостик, болтается.
Ну и девка, ну и девка бессовестная, подивилась Лиза. Чего только из нее будет?
Ребята – Вася и Родька – с отчаянным воплем грабастались за ее подол.
– Сейчас, сейчас! Никуда не денусь.
Она торопливо сполоснула руки под рукомойником, села на прилавок к печи.
В протянутые руки первым ткнулся Васька, но она взяла на руки не его Родьку.
Вася с размаху хлопнулся на пол, замолотил ножонками.
– Ну еще! Бесстыдник. У тебя-то отец дома, а у него где?
Сразу затихший Родька с жадностью – и зубами, и ручонками – вонзился в ее грудь, а она устало, из-под опущенных век смотрела на бушующего у своих ног сына и невесело думала: а где же наш-то отец?
2На другой день утром, после того как она всю ночь промучилась без сна в ожидании своего сбежавшего из дому мужа, Лиза сказала себе: хватит. Сколько еще ему надо мной измываться? Жить – так жить по-хорошему, по-честному, а смешить людей я и одна могу.