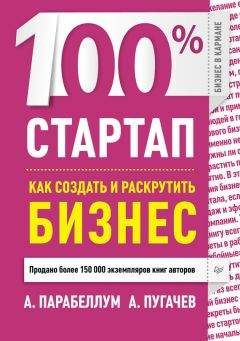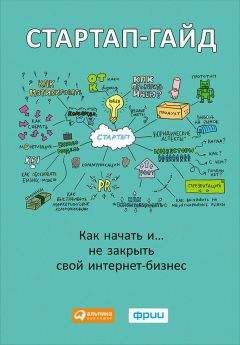Сергей Сартаков. - Философский камень. Книга 2
Председатель трибунала, советуясь, опять наклонился к своим коллегам.
— Подсудимый Бурмакин, отвечайте по существу предъявленных вам обвинений. Ваши встречные обвинения гражданину Петунину, которого вы называете Куцеволовым, суд отклоняет. Личность гражданина Петунина проверена предварительным следствием, и суд ее в данном случае не подвергает сомнению. У вас есть бесспорные доказательства, что перед нами не Петунии, а Куцеволов?
— Есть, — твердо сказал Тимофей. — Я узнал его. И он узнал меня, когда мы встретились в доме у Епифанцева.
— Вы можете назвать и свидетелей, кто это подтвердит?
Тимофей запнулся. Сто раз говорили они об этом с Людмилой. Но нет, не кривя душой, она никак не могла припомнить Куцеволова. И хотя готова была при надобности подтвердить, что тоже узнала его, Тимофей запретил ей делать это. Честность и правдивость превыше всего. Правда и сама пробьет себе дорогу. Да и поверят ли свидетельству жены?
— Таких свидетелей у меня нет. Только я один, — ответил Тимофей.
По залу суда пронесся легкий смех. Его тотчас же строго пресек председатель трибунала. И Тимофей поправился:
— Могу назвать еще свидетеля, кроме себя. — Показал пальцем на Куцеволова. — Все слышали, он сам подтвердил, что первый начал борьбу на рельсах. Но он солгал, что сделал это без побудительных причин. Была причина: он хотел уничтожить единственного свидетеля против него.
Куцеволов печально и словно бы про себя улыбнулся: вот, дескать, как оборачивает этот молодой человек мои добрые побуждения против меня же.
И зал на это отозвался сочувственно.
Но председатель трибунала и тут потребовал спокойствия. А затем объявил, что суд приступает к допросу свидетелей.
33
Вызванные первыми милиционер и дежурный помощник военного коменданта вокзала поочередно рассказали об обстоятельствах задержания Бурмакина.
Один из судей настойчиво спросил:
— Почему вы говорите о задержании? Подсудимый сопротивлялся, пытался скрыться?
Милиционер ответил:
— Да нет. Он сам набивался. Дождик тогда матрусил, холодно было, пригородного последнего ждали. На Москву. И я не пошел бы с ним в темень, а к тому же не на дежурстве, гостевал в поселке, а он говорит: «Убил беляка, хотел меня бросить под поезд». Ну и пошли. Никакого сопротивления не было.
Дежурный помощник коменданта попросту извинился за неточность выражения своей мысли. Бурмакин не сопротивлялся и не пытался скрыться, явился добровольно в сопровождении милиционера, а термин «задержание» относится лишь к тому факту, что Бурмакин после этого не был отпущен на свободу.
Епифанцев дотошно описал, каким образом оказалась обнаруженной в товарном вагоне Людмила Рещикова и как он с нею явился в кабинет товарища Петунина, как потом ходил, разыскивал Бурмакина, и как произошла непонятная путаница, когда он направился на службу к товарищу Петунину по его же наказу, а товарищ Петунин, оказывается, наоборот, тем временем поехал к нему.
Свидетели один за другим проходили перед судом. Но все их показания сводились главным образом к тому, кто, когда и при каких обстоятельствах виделся в тот день с Бурмакиным или Петуниным и о чем они тогда говорили.
Но все это не помогало суду прояснить картину ночной схватки на рельсах. Вопрос, насколько правдив в своих показаниях Бурмакин, по-прежнему оставался открытым…
И каждый свидетель к тому же полагал настоятельной необходимостью, кто знал Бурмакина, — дать добрую характеристику Бурмакину; кто знал Петунина — Петунину.
…Все жесткие вопросы обвинителя, обращенные к свидетелям и ставящие своей целью, обосновать предположение, что Тимофей Бурмакин — злой маньяк и что пошел он на преступление, движимый фанатической подозрительностью и жаждой мести, немедленно нейтрализовались защитником, который своими перекрестными вопросами к тем же свидетелям создавал убедительную версию рокового недоразумения, столкнувшего в борьбе двух честных и хороших людей. Но сам Тимофей упрямо отвергал рассуждения защитника.
— Повторяю: никакого недоразумения не было. Куцеволов хотел меня бросить под поезд, а я ему не поддался.
Помощник прокурора, поддерживавший обвинение, пожимал плечами: разве это удивительное упрямство не подтверждает мои предположения?
Сидя в свидетельской комнате, Сворень томился. Вот уже вызваны почти все. Остались только он да незнакомая комсомолка в красной косынке и сапогах. А в какую сторону там, за стеной, клонится стрелка судебных весов, Сворень догадаться все же не мог. И когда, наконец, выкликнули его фамилию, он вздохнул даже с облегчением. Черт, не его же судят, а с Тимкой детей ему не крестить!
Сворень вошел в зал, мгновенно почуял строгость, напряженность, царившую здесь, и уловил, как ему показалось, полное безразличие во взгляде Тимофея. Все ясно: доконали!
Он живо и легко ответил на все предварительные вопросы, подтвердил свои прежние показания. И не вытерпел:
— Думаю, что Бурмакину очень просто все могло примерещиться. Он ведь мистикой разной всегда увлекался, прямо с той поры, как приблудился к нашему полку.
— Мистикой? — немедленно врезался со своим вопросом помощник прокурора. — Прошу уточнить.
— Да он все тетрадки отца жены своей, какого-то белогвардейского капитана, любил читать. А в них одна густая чертовщина, астрология и алхимия. И еще не знаю что, совсем сплошная кабалистика. — Сворень сказал это и покраснел, подумал, что те давние тетрадки он сейчас совсем ни к селу, ни к городу помянул. Захотел немного смягчить сказанное: — И вообще, носился с ненашей философией: «Жизнь… Жизнь… Что такое жизнь? И смерть?» Все из тех тетрадок брал.
— Как давний его друг, вы полагаете, увлечение мистикой могло серьезно отразиться на характере, наклонностях, стремлениях подсудимого?
— Ну, последнее время мы не очень-то дружили с Бурмакиным. А увлечение теми тетрадками как же не повлияло на характер? И вообще, как не повлияло оно, когда Бурмакин даже женился на Людмиле Рещиковой!
И опять Сворень подумал, что, пожалуй, это тоже говорит ни к селу, ни к городу. Но ведь надо дать судьям понять, кто в первую очередь Тимошку довел до беды и кого он, Сворень, теперь никак не может считать его своим другом.
— Подсудимый Бурмакин, вы подтверждаете сказанное?
— Я нахожу унизительным для себя вступать в любые споры со Своренем, — ответил Тимофей. Глаза у него потемнели. — И я прошу привлечь Свореня к ответственности за оскорбление моей жены.
— Вопросов к свидетелю у меня больше нет, — заявил обвинитель. — Все ясно.
Защитник вообще отказался задавать вопросы Свореню, но с торжествующей улыбкой долго записывал что-то в своем блокноте. А Сворень, устроившись на указанном ему месте рядом с Анталовым, даже не повернувшим к нему головы, терзался сомнениями: неужели он все говорил невпопад? И не ужели Тимка выкрутится?
Последнего свидетеля — Анну Губанову — с особым, интересом допрашивал сам председатель военного трибунала, по указанию которого она и была допущена в зал суда. Выслушивая ее ответы, он наклонялся к Анне через стол, насколько это ему удавалось при его прямом, затянутом ремнями корпусе.
— Что же вы имеете сообщить суду, свидетельница, если во время самого происшествия вы находились в Сибири и не знаете лично ни обвиняемого, ни потерпевшего?
— Я знаю лично Людмилу Рещикову, — заявила Анна. — И, не смущаясь тем, что сбоку кто-то хихикнул, твердо продолжала: — А не зная лично Тимофея Бурмакина, я, как секретарь Худоеланской комсомольской ячейки, написала и подписала протокол заседания ячейки, в котором возвела на Бурмакина и на Рещикову поклеп. И эта моя бумага, я знаю, — она пальцем показала на пухлое следственное дело, лежащее на столе перед председателем трибунала, — зашита здесь. Можете привлечь меня к ответственности, если это полагается, за облыжные мои слова в том протоколе, но у себя считайте его недействительным. Запишите это, — потребовала она от секретаря суда. — Обязательно запишите!
Зал оживился. Обменялись недоуменными взглядами обвинитель и защитник. Людмила, вытянувшись, так и замерла.
Председатель трибунала спокойно перелистывал дело. Нашел документ, о котором говорила Анна, среди других бумаг, изъятых из сейфа Анталова. Прочитал.
— Чем же вы, свидетельница, руководствовались тогда, когда писали это, если теперь отказываетесь от всех прежних своих обвинений?
Анна заносчиво подняла подбородок. Ответила резко:
— Чем? А ничем. Злобой! Отца моего тоже в ту пору угнали белые. Погиб он без вести. А ее, подкидыша беляцкого, кулаки приютили. Как стерпеть? Разницы для меня не было: все беляки на одну масть. А еще, как повзрослели мы обе, к Алехе своему люто ревновала Рещикову. Ну и хотела ей досадить побольнее. Сколько просила она приблизить ее к молодежи и к комсомолу, но я кричала всем: «Она чужая!» И не только это. Когда пожар у Голощековых случился, поджог они свалили на Рещикову. — И Анна снова ткнула пальцем в сторону следственного дела. — Об этом тоже пришита у вас бумага. А я тогда утаила от всех, что Рещикова прибегала в наш дом еще до пожара и деду моему Флегонту в переполохе кричала: «Голощековы хлеб в навоз зарывают!» Пишите!