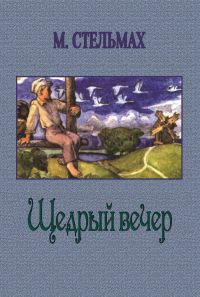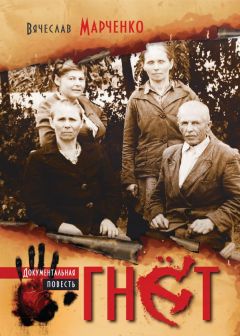Михаил Стельмах - Над Черемошем
— Правда, не приехали? — Марко сперва удивился, а потом рассмеялся, ероша пальчиками седеющие волосы отца. — А к нам вчера снова приезжал Михайло Гнатович. Я катался на его машине, а потом мы вместе опять пели коломыйки. Михайло Гнатович говорит: «Научи меня Марко, коломыйкам». А я ему отвечаю: «Как же я могу научить? Я еще маленький, ученик первого класса. Вы к нашему учителю пойдите». А Михайло Гнатович говорит: «Представь себе, что ты не маленький и что ты сам учитель». Я представит себе и спел:
Шел Гнат мимо хат,
Ганна — от криницы.
Нашел Гнат поросят,
Ганна — рукавицы.
Михайло Гнатович как засмеется. «У тебя, говорит, ври… ври… нет, не ври… а может, и врифма здорово получается. Так даже Тычина не умеет».
— Наверное, рифма, а не врифма?
— Вот-вот, рифма! — обрадовался Марко. — Откуда вы знаете? А что такое рифма?
— Что она такое? Вот «Гнат» и «хат» — будет рифма.
— А «Ганна» и «рукавицы»?
— «Ганна» и «рукавицы» — это уж, пожалуй, будет… врифма, а «криницы» и «рукавицы» — рифма. Видишь, как они ловко одинаково кончаются. Также будет рифма: «вершина» — «полонина»[5].
— А «вершина» и «долина»?
— Тоже. Есть хочешь?
— Неужели нет?! — Марко подбежал к тагану и заплясал возле него. — Кипит, кипит, так и бежит!.. А вчера к нам еще Василь Букачук и Иван Микитей заходили. Они получили в леспромхозе премию и хотели похвастаться вам. У Ивана Микитея из кармана выглядывала бутылка и, видно, натирала ему ногу — он все вздыхал.
— А ты, Марко, замечаешь даже то, что ученику первого класса и замечать не следует.
— Так я больше не буду замечать. А замечу — промолчу. Правда?
После завтрака Марко поцеловал отца и побежал в школу.
— Вы куда пойдете сегодня? — спросил он уже у ворот.
— Надо в горах встретить товарища агронома.
— Скоро придете?
— Наверно, скоро.
— Вы не задерживайтесь. Может, мы с вами сегодня погуляем над Черемошем, как вчера с Михайлом Гнатовичем. Видите, прояснилось уже. А почему у Михайла Гнатовича нет детей? Мы бы вместе играли.
— Беги, сынок.
И вот маленькие постолы затопали по тропинке, приплясывая и сметая с нее шероховатые камешки и розовый цвет росы. Ветерок донес до ворот щебетливый отрывок коломыйки, и Миколе почудилось, что это его детство побежало по тропке и скрылось в синем тумане дубравы.
На лужайке, отороченной двумя лиловыми рядками пихт, покачивались в густой синеве цветов тени туч. Спускаясь вниз, к Черемошу, Сенчук увидел на тропинке стройную девушку. Что-то знакомое было в ее походке, в движениях, в горделивой посадке головы.
«Неужто это Катерина Рымарь?» — удивился Микола, когда девушка обернулась в его сторону.
— Катеринка, это ты?
Девушка остановилась, и стрелки ее бровей лукаво подпрыгнули на невысокий смуглый лоб.
— Что, не узнаете? — подвижные, задорные губы выпячены еще совсем по-детски.
— И когда ты выросла такая?
— А что?
— Да ничего. Удивляюсь.
— А вы не удивляйтесь. Я и сама удивляюсь, а мама сердится: «Растешь, девка, как из воды, а кто теперь будет корову пасти?» — Она точнехонько передала голос Василины, наморщила лоб, и вдруг голубые глаза, ослепительные зубы, круглые щечки и неповторимые ямочки на них — все засмеялось, да так заразительно, что и Сенчук затрясся от смеха.
— А ты что ж матери?
— Что? Мы, мол, с Мариечкой думаем в сельскохозяйственный техникум поступать, а вы своей коровой загородили от меня всю науку.
— Так пойдем, Катеринка, со мной встречать науку.
— Науку? Сельскохозяйственную?
— Сельскохозяйственную.
— Тогда пойдемте! — девушка решительно свела к переносице брови. — Только погодите, скажу девчатам, чтоб присмотрели за коровой, — и она вприпрыжку помчалась на соседний лужок, перескочила ручеек и замахала руками девушкам, которые веночком расположились на глянцевитой траве.
Красочный венок, словно по команде, сорвался с места. Все вскочили, поглядели на Сенчука, потом на дорогу в горы.
«Что-то сказала им про науку», — улыбнулся про себя Микола.
А Катерина, прижав руку к груди, подбежала к своей Белянке. Навстречу поднялись печальные и влажные, как сентябрь, глаза; на шее коровы мелодично откликнулся колокольчик.
— Слышь, Белянка, пасись без меня, — велела ей Катерина.
Корова старчески покорно мотнула головой, вытянула шею и лизнула девушке руку.
— Ой, какая же ты баловница! И телушкой ластилась, и теперь ластишься. Ну, ешь мой завтрак, — Катерина с любовью подала ей ломоть кукурузного хлеба и, раскинув руки, шаловливо побежала вниз.
— Будут пасти! Только бы мать не дозналась. А далеко наука-то?
— Спускается с гор.
— И прямо в Гринявку? — в голубых глазах множеством звездочек мерцает улыбка, готовая в любую минуту брызнуть смехом.
— И прямо к тебе, непоседа.
А непоседа притихла на миг, пошевелила в задумчивости сочными подвижными губами, улыбнулась, и на луг легко, танцуя, вприпрыжку выбежала новая песенка:
Мы, гуцулы, гуцулики,
Стройные, как буки,
Подымаемся к вершинам
Навстречу науке.
— Катеринка, — сладким голоском окликнула девушку снизу темнолицая, пышнотелая Палайдиха, — а кто ж твою корову в горы погонит, когда ты полезешь на вершину за наукой?
Девушка вспыхнула. Она даже остановилась от возмущения, но, овладев собой, смиренно ответила:
— Я думаю, лучше всего вашей Палагне погнать мою Белянку: у нее такой голос, что все волки кинутся врассыпную.
На круглом лице Палайдихи округлились глаза и рот.
— Провались ты, бесстыдница! Ты что мою Палагну с голытьбой равняешь?
— Да где уж ей равняться с нами! Каши мало ела, — невинным голоском ответила Катерина.
А Палайдиха, бранясь и отплевываясь, так припустилась с горы, что тропка то и дело выскальзывала у нее из-под ног.
— Побежит теперь жаловаться моей матери. — Катерина вздохнула. — Будет мне сегодня к обеду лекция!
— Не горюй, Катеринка, мать на другие лекции перейдет.
— Вы так думаете?
— Верно.
— А скоро это будет?
— Как прищемим языки и хвосты палайдам да нарембам, так и твоя мать глянет на мир другими глазами.
— Поскорее бы!
— Что отец делает?
— Голову ломает.
— И большие у него заботы?
— Не такие уж большие, зато давние: спит и видит лошаденку. Совсем она ему голову затуманила. Просыпаюсь раз ночью и слышу — кто-то возится в темноте. «Ты куда, Юстин?» — спрашивает мать. «Лошадке надо сенца подкинуть». — «Какой лошадке?» — вскочила мать с постели — да в слезы: «Юстин, опомнись!» — «И привидится же! — тяжко вздохнул отец. — Такой конь приснился! Верно, и Палайда лучшего не держал. И зачем богу надо, чтобы бедному гуцулу и во сне не было покоя?!»
Вокруг, перекликаясь с шумом Черемоша, журчали кристальные горные потоки, пихты напевали свою мелодию, и казалось, слышно было, как лазурное небо звенело золотыми осенними прожилками и на них во множестве нанизывались клубочки облаков.
В долине, у маленького озерка, которое ранней весной браталось с волнами Черемоша, путники встретили седого, как поднебесное облако, деда Степана. Старик шел с далеких вершин неторопливой, гордой поступью.
— Как живете, дед Степан? — приветствовал старика Сенчук, с немалым удивлением раздумывая, что заставило горца спускаться в долину, где он бывал только по большим праздникам.
— Хорошо, детки, — старик оперся на резной посох и узловатым пальцем примял в трубке табак.
Костлявое, смуглое, словно вырезанное из дерева лицо Степана дышало спокойствием, а выразительные карие глаза говорили, что горец еще и не помышлял прощаться с жизнью.
Катерина с интересом присматривалась к старику, о котором ходило много былей и небылиц. Прадед Степана в 1736 году, когда Довбуш проходил через Косов, примкнул к повстанцам, а после смерти вожака жил в таких лесах, где и топор еще не гулял. С той поры к семье Дмитраков навеки пристало почтительное прозвище «опришки»[6] а слава предков, как сокровище, переходила к потомкам, поднималась новыми всходами, щедро окропленная неутешными материнскими слезами, ибо до самого 1939 года жизнь Дмитраков была втиснута в зарешеченные камеры «постерунков»[7] и тюрем, да в «акты оскаржони»[8]. И только по какому-то неписаному закону Дмитраки пользовались одной привилегией — их не пытали на допросах: полицейские, серебряногалунные комиссары, паны-коменданты, инспектора полиции — все знали, что у Дмитраков скорее можно вырвать сердце, чем слово.
— Куда это вы с гор, дед Степан?
— На собрание, сынок, — с достоинством ответил старик и потонул в облаке табачного дыма.