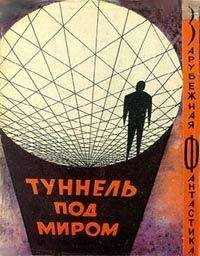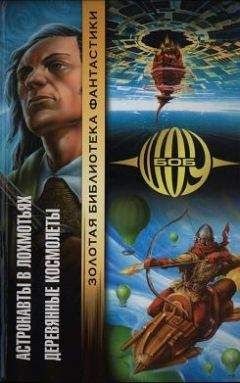Бронюс Радзявичюс - Большаки на рассвете
— Я тебя, Вигандас, не виню, вижу — ты сказал сейчас то, что и у меня на языке, но, боже, боже, как мне за вас страшно.
Некоторое время было тихо. Только метались по полу тени, со двора доносился глухой шелест липы, вдали погромыхивал гром.
Мать задержалась еще немного, вздохнула и вышла. Отец не сказал ни слова, сидел, положив руки на колени, брат невидящим взглядом смотрел в одну точку. Может, Миколас и не законченный негодяй. Может, в других условиях его пыл, решимость и смелость вызвали бы даже восхищение. Восхищение? Такое ощущение, что он и сейчас чувствует на себе чей-то восторженный, вдохновляющий, одобрительный взгляд. Не знаю… ничего я не знаю… я видел своими глазами, как он молился перед ликами святых. Может, в нем есть что-то затаенное — что? Самозащита, эгоизм, жажда властвовать? А может, это только крайнее выражение болезненного самолюбия? Может, так, в судорогах, должно умереть все, чем мы жили до сих пор. Всем своим существом я в ту минуту почувствовал, что он обречен, ужасен, что он погиб для меня, погиб для матери. Он растоптал то, чего топтать нельзя.
Я молчал, думал, смотрел, как колышутся на полу тени акаций. В открытые двери врывался теплый ветерок, по-прежнему светил месяц, где-то далеко за лесами еще гремел гром, стояла душистая животворная ночь, но мне почему-то казалось, что там, на западе, уже льется кровь, бухают взрывы — перед глазами маячили полки, чеканящие шаг на улицах Германии. Не обрушится ли их лавина и на наш край?
— Видишь, — вдруг заговорил отец. — Я тебя в учение отдал, Виганделис. Во многих местах ты побывал, многое увидел… — он бросил боязливый взгляд на мельницу, стены которой изредка озарялись светом молний, прислушался, как, падая с плотины, клокочет вода. — Сам видишь, как они со мной поступили: мельницу отняли, урезали землю. Те, кто раньше, только завидев меня, шапку снимали или что-то лепетали, теперь смотрят на меня свысока, исподлобья. Каждый готов плюнуть мне в лицо. Я даже сам начинаю смотреть на себя как бы со стороны. Куда ни пойду, со мной семенит сгорбившийся старичок в кожушке, он то забегает вперед, то отстает, то, поравнявшись со мной, останавливается у прилавка, шарит в кошельке, или, навалившись на стол, хлебает суп из миски. Все он делает украдкой, как бы боясь чужих глаз или сердясь на самого себя. Разве это, сынок, нормально, разве так должно быть? Будь добр, ответь мне — кто в этом виноват? Никогда я людей не чурался, мне всегда было по душе, когда другие оглядывали мою одежду, следили, как я торгуюсь на рынке, как, стегнув коня, сажусь в карету; нравилось, когда смотрели на меня с почтительным страхом, завистью или даже злобой. Шут с ними, думал я тогда, что они могут мне сделать, кто они такие. А теперь я в страхе. Повсюду меня преследуют полные злобы и презрения глаза. Меня! Мильджюса! Словно какой-то злодей, голос поднять боюсь, плетусь, как затравленный зверь, поджав хвост. Улажу свои дела в местечке — и чуть ли не бегом домой. Теперь любой сопляк может тебе такое в лицо бросить, аж дух перехватит. И попробуй раскрыть рот, вытянуть кнутом по спине — живьем растерзают. Они только ждут, только подбивают: ну, попробуй, Мильджюс, пошевелись, покажи, кто ты теперь? Вот ты человек ученый, ответь мне: разве можно допустить, чтобы так было? Ты мне скажи, можно это вынести?! Как они смеют?! Голь перекатная! Все они у меня в кармане сидели, а теперь… Подумай только: даукинтисы, визгирды, и те от меня теперь шарахаются, как от чумного — никто и не думает возвращать мне долги. Напомнил я тут одному, а он мне: «Да знаешь, ты, куда свои квитанции засунь!» — как топорам отрубил. Взять, к примеру, Криступаса Даукинтиса — ведь и этот голодранец на моей мельнице работал, — намедни, шатаясь, подошел ко мне, положил на плечо руку и, тряся головой, бросил: «Не завидую я теперь тебе. Совсем не завидую. Не хотел бы я быть на твоем месте, ой, не хотел бы. Получил ты по заслугам. Псом ты был, а не человеком. Понимаю я тебя, только ничем помочь не могу. А если бы и мог, то не помог бы. Такой уж ты уродился. В твоей груди не сердце стучит, а мельничные жернова крутятся. С волоками[1], с мельницей на свет ты родился, с ними и помрешь. Когда хватали, делили волоки, делили и тебя. Не так ли, Мильджюс? Тебе, конечно, больно, ты весь теперь как бы из лоскутов сшит, — глумился он надо мной, радуясь моему несчастью. — Жаль мне только твоего сына Вигандаса, а Миколас сам погибель найдет и других погубит», — говорил он. Но чего стоит эта его откровенность? Я и теперь чувствую тяжесть его руки, которую он положил мне на плечо. Эта тяжесть меня к земле гнет. Вижу его осоловелые от водки глаза. Нет, я бы никогда раньше не поверил, что Даукинтис отважится вот так положить мне на плечо руку, а я, стоя на базаре возле ящиков с поросятами, буду слушать его. «Такие вот делишки. Таким, как ты, несладко. Кулачество надо вырывать с корнем, — говорит. — Ты как волк в чаще. Сперва мы выли, теперь ты повоешь. Будь здоров и передай мой трудовой привет Вигандасу, с ним я всегда находил общий язык. И низкий поклон вашему высокопревосходительству. Мог бы я тебе и чарочку поднести, но ты ведь откажешься. А может, не откажешься? Может, все-таки на дармовщинку выпьешь, а? Денег не жалко, вон сколько их у меня, — и достал из кармана пачку смятых банкнотов. — А ты, Мильджюс, даже на гроб себе пожалеешь. Ведь пожалеешь? Он пожалеет, ох, пожалеет», — заорал он на весь базар и, шатаясь, зашагал к закусочной.
Один я теперь, сынок, и был бы совсем один, если б не Миколас. Он им покажет. Ведь так, Миколас? Мы этого не потерпим, нет, нет. Никогда! Миколас заставит их ползать на коленях, они еще попляшут под нашу дудку. Правда, Миколас?!
— Да, да, отец, — сказал тот, думая о чем-то своем.
— Вот это настоящий сын. Он меня понимает и любит. А ты будто не в моем доме рос, может, и отцом признать меня не желаешь, косишься на меня, как эти голодранцы? И Миколас тебе не брат. Все от нас отвернулись. Славное, громкое имя Мильлджюса для тебя слишком тяжкая ноша. Скажи мне откровенно, — произнёс он, понизив голос и разжав пухлые кулаки, — как тебе нравятся перемены? Может, считаешь, что эти голодранцы правы, что так и должно быть? Ты всюду ищешь свою правду, но мы хотим жить, и жить, как раньше. Понимаешь? Мы для тебя, наверное, и не люди, мы для тебя уже не существуем!.. Вот так сыночка я вырастил, вот как он меня отблагодарил и утешил на старости лет!
— Да, да, — не скрывая своего презрения, сказал брат. — Он большевик. Святоша! Вот кому мы должны упасть в ноги, вот кто благословит нас своей интеллигентной ручкой, окропит своими горькими слезками, отведет к прихожанам и скажет: просите прощения, ибо вы тяжко перед ними провинились.
— Ах, брат, брат, — сказал я. — Почему ты ничего не можешь и не хочешь понять? Все, что ты делаешь — белое, а что другой — черное. Ответь прямо — разве мы не выжимали из них все соки? Представь себя на их месте, спроси себя, как бы ты поступил.
Однако брат снова стал выкрикивать те же презрительные слова, и я, потеряв терпение, бросил:
— Да, вы были и останетесь кулаками.
Вдалеке все еще гремел гром. На западе, над болотистыми лесами, видно, хлестал дождь, но здесь, над нашей островерхой ригой, над белеющими в темноте стенами мельницы, над скошенным лугом, высоко светил месяц и приглушенные лесные вздохи плыли над верхушками деревьев. Оглядевшись, я быстро зашагал по узкой тропинке, петлявшей по лесной опушке, прошел мимо устроенных между двумя елями качелей, на которых мы качались в детстве, мимо огромного, в лишаях, валуна. Я знал, что по ту сторону еловой стены скошенные луга — ветерок из чащи приносил сюда запах свежего сена, — и окаймлявшая их река, заросшая черной ольхой. Справа возвышалась гора, простиравшаяся далеко на восток — я шел по отбрасываемой ею тени. В годы моего детства и тут была пуща, но отец вырубил деревья, орешник, выкорчевал пни, и теперь здесь росла ранняя картошка, которая давала прекрасный урожай на сером лесном песке.
Доведется ли мне когда-нибудь снова походить по столь любезным моему сердцу тропинкам детства? И выдастся ли когда-нибудь такой великолепный вечер? Я чувствовал — это вечер прощания с этими деревьями, месяцем, лугами. И, как бы зная это, ночь щедро одаривала меня своими запахами и чарами. Я взобрался на гору: на север, насколько хватало глаз, уходили леса, залитые тусклым сиянием. Вот белый, петляющий через топи большак — по нему мы ездили на базар. Вот затопленные лунным светом луга, вот дымящееся русло реки, вот клокочущая, низвергающаяся с плотины цветными каскадами вода.
Над моей головой зашелестел кроной одинокий дуб, покинутый всеми в чистом поле.
Все еще погромыхивало. Мое внимание привлек далекий красноватый огонек среди топей. Через лесную чащу я зашагал прямо к нему. Вдруг, ломая кусты и фыркая, на дорогу выбежал дикий кабан. Я успел увидеть только его клыки и взъерошенную спину. Выждав, пока уймется колотившееся сердце, я двинулся дальше — шел медленно, обдумывая каждое слово, которое я только что слышал в избе. И те, что слетали с моих уст, и те, что выкрикивали отец и брат. Я брел на тот красноватый огонек, словно меня выгнали из дому, и никак не мог взять в толк, куда и зачем иду. С глаз моих как бы упала пелена, и слова, которых я раньше не слыхал и которым не придавал никакого значения, вдруг обрели вес и смысл. Брат — маленький диктатор, фашист, разве он не злостный притеснитель, угнетатель? Как бы заносчиво он ни разглагольствовал, он всегда будет марионеткой таких мельников, как мой отец. Вдруг я почувствовал себя в шкуре человека, который долго читал текст, написанный на чужом языке, понимая смысл только отдельных слов, пока не раскрыл лежащий рядом словарь. Я никогда не питал доверия к абстрактным, обобщающим понятиям. Каждое событие или явление я всегда воспринимал в его конкретности, в его индивидуальном обличье, избегая как бы упрощающей все, отметающей специфические черты универсальности. Тирания абстрактных понятий меня страшила. Под их покровом рыдала истинная душа вещей, скрывалось что-то непонятное, неуслышанное, задыхалась и стыла жизнь. Я всегда ощущал своевольный диктат разума, без которого претендующее на объективность познание невозможно. Такова природа нашего мышления, нашей логики. И, размышляя о людях, собираясь их судить, я прежде всего старался представить себя на их месте. Понять — значит оправдать. Но теперь я чувствую себя в силах взглянуть на некоторые вещи со стороны, не ставя знака равенства между ними и собой. Я постепенно уяснил для себя, что авторитет власти, та или иная идеология могут существовать, только стремясь к безоговорочному обобщению всех явлений, к установлению единых законов и закономерностей и руководствуясь ими. Таков характер не индивидуального, а универсального мышления. И оно обязательно. Во всем должен существовать порядок. Казалось бы, такие простые истины, но я радовался им, Как обреченный, которому оставили крупицу надежды на свое оправдание. Почему я этого не мог понять раньше, упорствовал, чего-то ждал? Может, я и впрямь неисправимый индивидуалист? В глобальном смысле и я, и мой отец были не исключением, а только представителями, в лучшем случае, единицами определенных социальных групп. Хотя я почему-то отказывался признать, многие — если не все — наши поступки определяло социальное положение. Нас ужасала и приводила в отчаяние правда, которую нам говорили в глаза. Мы скрывали ее от себя и от других, как скрывают какой-то порок.