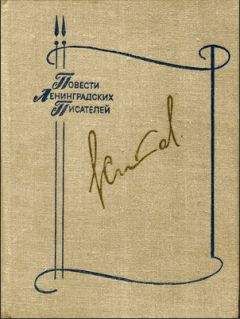Элигий Ставский - Камыши
Правое крыло начало валиться вниз. Пустота под сердцем разрасталась уже всерьез.
Я закрылся газетой, той самой, которую купил в киоске, когда мы с Олей бесцельно бродили по вестибюлю аэровокзала.
Большими буквами: ВЬЕТНАМ.
Большими буквами: КАМБОДЖА.
Большими буквами: СУЭЦКИЙ КАНАЛ.
…Иногда на полянах попадались замерзшие грибы, а на болоте клюква. Но трудно было сжимать пальцы, чтобы сорвать эту ягоду. А мое разбитое колено болело все сильнее и было огромным, фиолетовым и вздувшимся, как резина. Но, наверное, и это можно было вытерпеть, если бы так не хотелось спать. Я садился на корточки и, обхватив голову руками, положив ее на колени, забывал обо всем, пока не ощущал, что падаю, что уже лежу на земле. Я садился и падал и снова садился и падал… И я увидел их. Сперва у ручья я заметил следы сапог на снегу. Потом что-то тяжелое свалилось сверху и грузно упало совсем рядом со мной. Я не хотел просыпаться, но все же поднял голову и увидел не человека, а тень, которая метнулась за ствол, а потом к ручью, за корягу. До меня донесся голос, приглушенный и торопливый. Я подтянул к себе автомат и спросил: «Кто? Кто там?»
Это была смерть в бою. В моем первом и последнем бою. «Kommen sie, kommen sie näher. Ich habe keine Angst!»[1] — крикнул я.
Шаги были сзади, и я увидел его, сгорбившегося, пригнувшегося. В одной руке он держал бутылку, а в другой гранату. Я лишь позже узнал, что она у него вместо камня, потому что запала в ней не было.
«Капут, гад! — крикнул он мне, замахиваясь. — Бросай шмайсер. Капут».
Я отшвырнул автомат, чтобы не выстрелить от страха, потому что это был свой, и, закрыв голову руками, прыгнул куда-то, но поскользнулся и вдруг оказался в ручье и теперь уже под дулом нацеленного на меня моего автомата.
«Я наш. Наш. Я русский».
«Шпион. Сволочь. Гад. Дезертир».
«Нет, нет, нет. Не надо».
«Финн? Местный?»
«Русский. Из Ленинграда».
Наконец он отвел дуло в сторону.
«Я командир полка майор Скворцов. Я собираю в лесу людей. Вставай. Сколько тебе лет?»
«Семнадцать».
«Игрушка откуда? Автомат, говорю, откуда?»
Пошатываясь, из-за дерева вышел еще один, тоже обросший бородой. Я объяснил им, откуда у меня этот шмайсер и как я попал сюда.
«Откуда шинель?»
«Красноармейцы дали».
«Врешь».
«Мне в Ленинград, в Ленинград. Возьмите меня с собой!» Я старался смотреть ему в глаза и повторял, повторял, откуда у меня эта военная форма и почему при себе паспорт, а не красноармейская книжка.
«Молчать! — приказал майор Скворцов и подтолкнул меня автоматом, потому что я начал трястись еще сильней. — Иди туда. В деревню».
«Мне в Ленинград, в Ленинград!» — закричал я.
Он опять подтолкнул меня автоматом. Другой отвернулся, когда я схватил его за рукав шинели.
«Иди, — повторил Скворцов. — В деревню иди».
Я смотрел, как они уходили в лес все дальше, потом крикнул и пошел за ними, уже понимая, что им нужен был мой автомат. Они тоже едва шли, но все же быстрей, чем я мог, не оглядывались, не обращали на меня внимания, а я спотыкался, падал, вставал и уже не стеснялся своих слез, видя, что отстаю. Лес был совсем зимним.
Очнувшись в санитарном вагоне — это была станция Хвойная, — я увидел рядом командира полка майора Скворцова, или Петьку Скворцова, как я называл его потом, который лежал неподвижно и тихо, обмороженный и перебинтованный, точно куколка. Но он-то и дотащил меня до этого вагона, пропахшего йодом и гноем. И все же это была еще не война. Пожалуй, война для меня началась в сорок третьем, когда я попал на Миус. Что произошло с моими родителями и где они похоронены, я так никогда и не узнал. Лишь работая над романом о блокадной зиме, я раскопал в военных архивах, что в декабре сорок первого отец еще был жив и занимался какой-то незамерзающей жидкостью для танков…
Странно далеким показался мне чуть хрипловатый голос: «Минус сорок пять… вентиляторы… завтрак…»
…Вернувшись в Ленинград после того, как научился не бояться лестниц и выписался из госпиталя, я мог только благодарить судьбу и городские власти. Просторная уютная наша квартира с закоулками, коридорчиками, сводами сохранилась, меня пустили туда вместе с дворником, и, хотя был уже август сорок пятого года, знакомая мне двустворчатая дверь самой большой комнаты была забита двумя досками крест-накрест и все еще терпеливо дожидалась меня. Из кухни доносился шум примусов, и несколько женщин в халатах выглянули, чтобы посмотреть на меня. Мраморная лесенка в конце коридора осталась, но все три ступеньки были расколоты, шатались, их нужно было менять, и мне сказали, что «так и было с самого начала». Потом я понял, что отец, наверное, рубил на ступеньках дрова или свой стеллаж, или дедов инкрустированный поставец, или концертный «Стейнвей». Но сколько бы я ни смотрел на эту белую лестницу, узнать, когда в последний раз ступала на нее нога любимой моей матери, я не мог.
Отодрав доски, я открыл дверь столовой, и на меня навалилась не тоска, а смерть. Как же так?.. Наши окна… Я увидел наши окна, потолок, бронзовые подсвечники на стенах и груду пыльного хлама в углу — все, это все, что осталось от самого дорогого, живого, святого, единственного на земле, неповторимого, моего. От голосов, от дыхания, от трудов, от надежд, от радостей, от забот и ласки, от материнских слез…
В груде этого серого, мертвого хлама я нашел черный наперсток, железную рамку для фотографии. Все, что уцелело от прочного. Через несколько лет у соседей отыскалась наша Библия…
— Принесу после всех. Где ваш столик? — услышал я строгий голос стюардессы. — Или опять, как дите малое?
Я вертел пластмассовую дощечку так и этак, пока мой сосед не наклонился, привычно схватил этот столик за лапки, приладил его к моему креслу и прихлопнул белой ладонью.
— Я вам сочувствую, батенька. У меня после вчерашнего тоже, знаете, маленько шумит.
Ему было лет тридцать восемь, лицо большое, как будто помятое.
— Ну вот, так-то лучше, — смягчилась стюардесса. — А то ели бы холодное.
…Вижу так, словно сейчас могу дотронуться до него руками, вьющийся, праздничный, солнечный день. Огромное небо. Всюду зелено. Слышу веселое, нетерпеливое дребезжание ярко-красных, как флаги, трамваев. Все пестро. Все разноцветно. Маме исполнилось тридцать. Она держит меня за руку, и мы, одетые во все новое, идем в церковь, легко обгоняя прохожих. Начиная с деда, никто в нашей семье не верил в бога. Но так некогда было заведено. И мы с мамой неподвижно, молча, немного стесняясь, стоим неподалеку от серебряного алтаря, слушая запахи, тишину и шепот. Потом я сам покупаю, зажигаю и, кое-как дотянувшись, ставлю куда-то липкую тонкую свечу. А вечером вместе с отцом, который еще более хмур и суров, чем всегда, и нижняя губа его уже полностью закрывает верхнюю и ползет дальше, к носу, от чего лоб тяжелеет еще больше, а лицо кажется капризным и деспотическим, — с таким же одногубым капризным лицом он всегда стоял над шахматной доской, выдумывая свои двухходовые задачи, — мы с ним одну за одной зажигаем все тридцать свечей на большом юбилейном мамином пироге… И только потом, воссоздавая облик матери, — почему-то она кажется мне ситцево-тонкой, подобной запахам поля, такими удивительно синими были ее глаза, — только потом, выхватывая из времени быстро плывущие и мелькающие эпизоды нашей жизни, я понял, что была мать в доме бесшумным, волшебным и трудолюбивым челноком, всегда вовремя поспевающим и всегда незаметным. Была она из той породы людей, которая согревается теплом отдаваемым. И потому дом наш всегда был приветливым и естественным. И только потом, успев уже кое-чего навидаться, я мог оценить всю глубину и щедрость материнской души, если она сумела сделать незаметной и бескорыстной даже свою женскую красоту и как будто никогда не была занята собой, а единственно чем была занята — жизнью отца, стараясь уловить каждое его слово, жест, желание, хотя сама тоже была не обделена природой. Была награждена природой, но дара своего стеснялась, краснела, отшучивалась, с улыбкой принимала подтрунивания отца и сама смеялась над своим увлечением, становясь в эти минуты еще красивее и женственнее. И я понимал, что влюбиться в нее можно было без ума. Она рисовала. Неплохо карандашом, но больше любила краски. Только закрыв глаза, я могу сейчас представить ее пейзажи, которые во время блокады, очевидно, пошли на растопку, если отец умер первый, или их выкинул кто-либо из новых жильцов. Рисовала она преимущественно летом, когда мы уезжали на дачу под Лугу. Не уходила из дома, а вдруг пропадала. Вот тут-то отец и начинал потирать руки и, подозвав меня, молча и глубокомысленно поднимал глаза к небу, а потом говорил: «Ну-ка, сбегай, поищи, где наш Левитан». И в самом деле, выбирала она сюжеты почти левитановские: деревья, вода, много неба. Подражая отцу, принимая видимость, внешнюю сторону его поведения за сущность, я тоже относился к нашей семейной живописи снисходительно. Зато теперь, припоминая, я убежден, что водил рукой матери не глаз, пусть и зоркий, не разум, а была послушна ее рука чувству, ее замечательной душе. В казавшейся неточности и непохожести тех линий как раз и было свидетельство того, что это не школярство, не тягостное безнадежное упорство самовнушения, а именно дар, потому что во всех рисунках неизменно присутствовало настроение, грусть, некая печаль, но, пожалуй, не левитановская, а какая-то другая, своя, более светлая. Было в ее рисунках что-то очень личное. А запомнил ее я… да, именно тонкой, как ситец, гладко причесанной, немногословной, естественной, всегда занятой, с тарелкой или щеткой в руке или тяжелой продовольственной сумкой, или над кипой школьных тетрадей. И ни разу не слышал ее вздохов, не знал о ее болезнях, не видел, когда ложилась она, а когда вставала. И только выйдя с ней вместе на улицу, прыгая возле нее, замечая, что и ей, так же как мне, тоже нравятся обращенные на нее взгляды прохожих, чувствовал я ее необыкновенность, особенность, такой она была стройной и красивой, такой казалась нарядной в белом платье, которое сшила сака, и легкой, и такой непохожей на всех других.