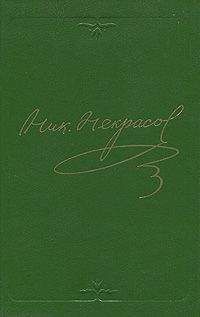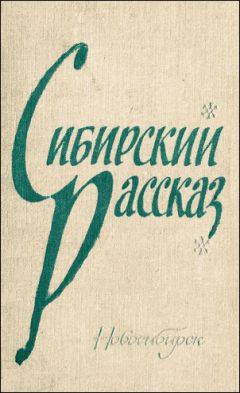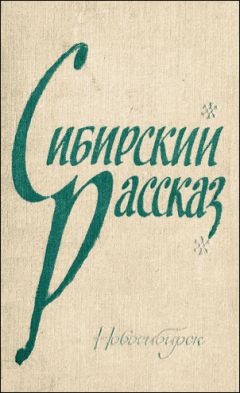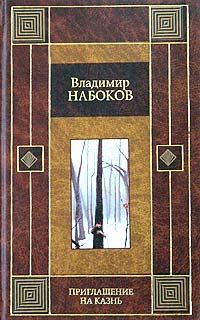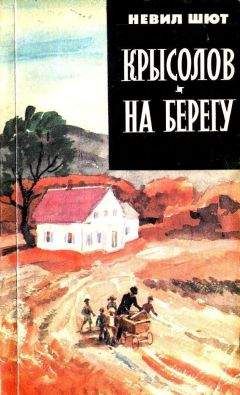Давид Константиновский - Яконур
— Правило то же, что и на ученом совете, — предостерег Саня. — Не трепыхаться.
Внизу фыркнули.
На стенах выступали потеки смолы. Металлический термометр показывал сто двадцать.
Саня поднялся и выскользнул за дверь.
Целая семья была изображена по кругу финского термометра: муж, повернувшись к Герасиму, хлестал себя веником по груди, жена сидела к Герасиму боком, волосы повязаны косынкой, и, склонив голову, доставала веником спину, а внизу, под осью стрелки (там прохладней!), малыш, повалившись на лавку, задирал ножки и бил себя веничком по пяткам.
Саня вернулся с бутылкой пива, светлая пена аккуратно выступила над горлышком; плеснул каплю на керамику.
— Что это значит? — спросили с нижней скамейки. — Символика? Яконурский обычай? Если нет, срочно придумайте сами что-нибудь!
Запах поджаренного ржаного хлеба, едва уловимый…
— Божественно, — сказали снизу.
Саня отхлебнул пива, передал бутылку Герасиму.
Глоток; Герасим отдал бутылку соседу.
— Сколько надо было пострадать! — вздохнул Саня. — Эксперименты, расчеты… Доклад писать… Идеи нужны… Потом здесь — выступай, других слушай, дискуссию выдержи… Столько мук примешь, пока до цели доберешься!
Герасим смеялся со всеми.
— Дрогнули! — скомандовал Саня.
Они бежали по гулким мосткам, жаркие — сквозь неподвижный холод весеннего вечера; босиком по доскам, — шлепанье ног, скрип дерева…
Легко оттолкнувшись, Герасим распластал себя в воздухе и плавно вошел в воду.
Обожгло.
Ему показалось, вода вокруг зашипела.
Выбросив руки вперед, пригнув к ним голову, он скользил в глубине. Он улыбался.
Я вижу, как плывет он в черноте вечерней воды, не двигаясь, влекомый силой, с которой он оттолкнулся от мостков. Улыбается. Вижу, как вода обтекает его пальцы, встречая его. Потом она струится вдоль рук и прикасается к голове.
Ему хорошо.
Он был легко ранимым человеком и знал об этом, а перед здешней конференцией, в общем-то не очень важной, волновался особенно: привез сюда первую свою работу после недавней защиты докторской и понимал, что по ней будут гадать, как он, что он: каков теперь и что еще сможет. Он ловил и выверял все, что происходило в дискуссии и потом, в разговорах; его беспокоило отношение к нему до и после доклада.
Герасим привык предъявлять к себе максимальные требования. Плюс полная концентрация на одной цели. Никогда он не делал ничего с ограничениями, во все вкладывал себя полностью и в любом случае руководствовался собственными требованиями к себе. Это создавало ему трудную внутреннюю жизнь, но было его силой. Он не хвалил себя, потому что знал: кроме этого, он был счастливчиком, ему везло, он был благополучен. Пока.
Работа занимала его полностью; профессия сделалась так же неотделима от него, как его собственное имя, которое дала ему когда-то старенькая учительница; он был неутомим и любопытен, и оттого, видно, и получалось так удачно, что работа составляла содержание его жизни и он забывал обо всем другом. И это тоже, он знал, очень большое везенье.
Бывали, конечно, досады. Ему не всегда удавалось ладить с коллегами. Вопреки всеобщему заблуждению, среди них часто оказывались люди ограниченные, да и просто скучные. Случалось, разочаровывали не только люди, но и какие-то повороты в работе. Ну и что-то еще. Случалось… Но все это в конечном счете принимало вид нестрашных издержек.
Он еще чувствовал себя щенком, но понимал, что уже постепенно входит в круг людей, на которых всегда смотрел с воодушевлением. Понимал: становится теперь одним из них. Не что-нибудь другое, а собственные работы выдвинули Герасима в этот круг. Причастность к нему значила много. Она прибавляла Герасиму уверенности в том, что его работа действительно целесообразна и важна. Он был нужен. Государству. Людям. Такой шел процесс. Такое было время. Короче говоря, его интересы совпадали с интересами общества. Все это вместе означало, что он может заниматься любимым делом — тем, что составляет для него главный интерес. И будет чувствовать себя нужным человеком. Может жить, не думая о хлебе насущном и не сталкиваясь с необходимостью доказывать, что он не верблюд. И всегда у него будет сознание правоты. Правильности своей жизни. Это давало ему удовлетворение. Это было необходимо для него.
Тем больше он волновался сегодня.
К вечеру, выслушав каждого, он понял, что может вернуть себе равновесие…
И все сложилось сейчас в одно ощущение: хорошо.
Все хорошо!..
Он развел руки, взмыл к поверхности и поднял голову. Открыл глаза, вобрал в себя холодный воздух. Подплыл к мосткам.
Были холодные сумерки. Перья на небе из розовых стали сиреневыми, и под ними, неподвижными, быстро проплывали кучевые облака.
Дыхание успокоилось. Герасим пошел по мосткам в домик. Шел не торопясь, еще разгоряченный, шел студеным весенним вечером по деревянным мосткам к берегу озера…
Саня еще плескался.
На миг у Герасима появилась мысль о пире во время чумы: что это я, когда у них тут… Он обернулся. Озеро уже исчезало во тьме. Герасим посмотрел на свои мокрые следы на досках и зашагал дальше.
* * *Ольга вспомнила, как ходила с Борисом к деду.
Тогда тоже надо было принять решение.
Вроде просто воскресный обед у бабы Вари. Такой же, как другие. Внучка вернулась, приехала с мужем, и баба Варя пригласила родню. Все просто.
Ольга сидела рядом с Борисом; дед принял его хорошо, и Борис быстро освоился. Пил водку с мужчинами.
Стол, бабулины вкусности, как обычно.
И — ожидание. Все смотрели на Ольгу и на Бориса и ждали.
Даже если б она ни слова не сказала, — то, что она промолчала, тоже было бы ответом на их ожидание. Если б она ничего не объяснила, все равно — это и стало бы объяснением.
Она уговорила Бориса взять направление на Яконур, да, это сделала она, это было ее заслугой. Она родилась здесь, и она сюда вернулась. Яконурские возвращаются. Привезла из Ленинграда мужа. Всё так.
Направление им дали на комбинат.
Им обещана была уже квартира на строительстве комбината, вот-вот они должны были ее получить, их ждали все те радости, что бывают у молодоженов с получением квартиры…
Да, стол с бабушкиными вкусностями, как обычно.
Всем, кто сидел перед Ольгой и Борисом за тем столом, Яконур всю жизнь был кормильцем и поильцем. Им случалось терпеть обиды и горе от Яконура. Но он был родиной.
Комбинат строился на другом берегу. Ольга и Борис были, следовательно, люди с того берега. Люди той стороны.
Она родилась здесь, на этой стороне, на этой!
Все ели, хвалили бабу Варю; довольны были тем, что собрались вместе; беседовали понемногу.
Надо было сказать.
— Что же, — сказала Ольга, — как нам быть?
Напротив сидел дед — отец ее отца, дед Чалпанов, хозяин дома, Кузьма Егорыч, глава рода, старший из братьев, седой, румяный, крепкий и красивый в семьдесят пять лет, когда-то первый среди яконурских капитанов. Рядом с ним, у своего места, остановилась с полотенцем в руках баба Варя — бабка-кержачка, вырастившая Ольгу, высокая, прямая.
Молчание…
По правую руку от деда — Иван Егорыч, средний брат, капитан и лучший из рыбаков в молодые годы, с лицом бледным и всегда сосредоточенным, и жена его, тетя Аня, полная, милая, дед ее называл — теплая.
Ольга ждала.
Слева — младший, Карп Егорыч, или попросту Карп, поскольку ему шестидесяти еще не было, худой, замкнутый, отщепенец в семье, не очень жалуемый братьями, но приглашенный из-за значительности события; тоже провел жизнь на воде.
Молчание…
На стенах были фотографии, их было много, поближе к зеркалу они лепились теснее; с них смотрели, не мигая, люди в платках, буденовках, капитанских и обыкновенных фуражках, в пилотках и простоволосые.
Сейчас особенно стала заметна схожесть всех лиц.
Ольга ждала ответа.
Говорить должен был, конечно, дед. Он промедлил. Будто главное он сказал одному себе. Вслух произнес только, как добавил к главному:
— Вы там! Что вы сделаете там с Яконуром…
Больше об этом не сказали ни слова, беседовали за обедом о чем угодно, только не об этом — Ольгу все любили, — но тут был уже ответ. И она больше не спрашивала.
Ей стоило немалых хлопот уйти с комбината; на квартиру они теперь не могли рассчитывать, остались в общежитии; Ольгу приняли в институт лаборанткой, других мест не было, она стала работать у Косцовой, ездила туда на автобусе, — шестьдесят километров в один конец, летом пыль, зимой мороз…
Дед, когда узнал, не сказал ничего, она и не ждала от него слов, — как сделала, так и сделала, об этом не говорят, это ее дело, Ольгино. Ее решение.
Борис работал на комбинате. С Борисом было сложно… Ольга все более ценила его отношение к ней, многое в Борисе по-прежнему Ольгу трогало, она продолжала уважать его, ибо многие его поступки вызывали уважение, — и приходила в отчаяние, чувствуя, как угасает в ней интерес к Борису. Тут было наваждение, против которого она оказалась бессильна. Чем дальше она узнавала Бориса, тем лучшим он оказывался и тем равнодушнее к нему она становилась.