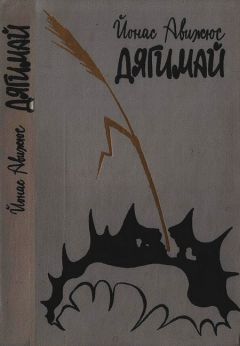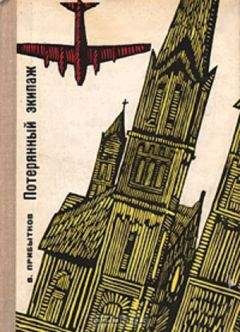Йонас Авижюс - Потерянный кров
— Товарищ Нямунис, — вежливо поправил Марюс. — Мы-то господами никогда и нигде не были, гражданка Вайнорене.
— Может, и не были, а сегодня нет господ злее вас! Землю отобрали, в горницу голодранцев напустили. Посмотри, какие у нас руки: это мы-то господа? Надрываемся от зари до зари, хуже батраков — босые, оборванные, потные. Бандиты, грабители, вот кто вы, гос-по-дин Нямунис.
— Мать, э-э… потише… — закряхтел отец.
— Не суйся не в свое дело! На чужое добро голяком пришел, тебе хорошо болтать. А ты, господин Нямунис, не думай, что уж и делу конец и ваше слово последнее. Ни одна обида на земле не остается без возмездия. Настанет время, умоетесь вы нашими слезами. — И как пошла, как пошла, полную избу набила «разбойниками» да «головорезами».
Марюс ходил по избе, терпеливо ждал, пока она выкричится. А Аквиле стало стыдно. Словно она впервые увидела, какая грубая деревенская баба ее мать.
— Мы не бессердечные, мамаша, понимаем ваше недовольствие, — сказал Марюс, когда она выдохлась. — Пожалуйста, посоветуйте, как сделать, чтоб и Черная Культя перестал быть голодранцем, как вы его назвали, и вас не обидеть? Советская власть хочет хорошей жизни для всех. Вот мы и берем от тех, у кого многовато, и даем тем, у кого ничего нет. Вы же верующая женщина, знаете, что Христос велел делиться с бедняком последним куском хлеба, а эти десять гектаров, что получил Культя, не составляют и четверти вашей земли.
— Иуда! Он меня катехизису будет учить, безбожник проклятый! — надрывалась мать, когда Марюс ушел.
Аквиле захотелось рассмеяться и назвать ее Катре Курилкой, — так ее дразнили в деревне, — но сказала только:
— Культурный человек. — А мысленно добавила: «Если б она знала, что мы любим друг друга…»
— Бандит!
— Как ни назови, а законы веры он знает лучше некоторых помазанных христиан. — Она вызывающе хихикнула и вышла во двор, тщетно подавляя растущую ненависть к матери. За деревьями, что росли за гумном, виднелись хлеба, белесые, как песчаное дно речки, и она смотрела вдаль, не видя того, кого хотела увидеть, но твердо веря, что он где-то там и никуда не денется — ведь от судьбы не уйдешь.
II«Он прошел здесь, — думала она, не в силах оторвать взгляда от песка, размываемого течением. — Я должна догнать, будь что будет, должна его догнать». Белесое дно речки раздалось вширь, пожелтело, как нагретое солнцем поле спелой пшеницы; ей страстно захотелось прижаться к золотистому морю и раствориться в нем, слившись с теплым хлебным духом, которым дышала плодоносящая земля. «…Будь что будет, должна его догнать…» Сделала шаг, и все вокруг заполнилось странным гулом, словно нога задела язык невидимого колокола, тот ударил по медной громаде, залив пространство звоном, который распался на тысячи хрупких осколков и со страшным грохотом обрушился на землю.
Она очнулась.
Парни больше не пялили на нее глаза. Они смотрели на небо, усеянное черными крестиками. Самолетов было много, они летели в аккуратном строю, как на параде. Тяжелые, неуклюжие. На крыльях передних можно было различить пятиконечные звезды.
— Глянь-ка! — закричал один из парней. — Сбоку немцы!
В небе стали взрываться лиловые облачка. Строй мгновенно распался. Два самолета, волоча черные шлейфы дыма, ушли в разные стороны и исчезли, а третий лопнул, словно детский шар, и на землю посыпались горящие обломки.
— Вот как воюет немец!
— Я-то их не различаю… Где он, где этот твой немец?
— Посветлее, с крестами на крыльях. Неужто не видишь, вон там двое. Ты правей, правей смотри! Нет, трое! А вот и четвертый! Ишь как ныряют, черти, любо смотреть. Ворвались, как ястребы в голубиную стаю, одного за другим сшибают…
— Вижу, уже вижу! Опять одного подпалили! — подивился второй, показывая рукой на подбитый самолет, который, раскачивая крыльями, спланировал по опустевшему небу куда-то за лес и там взорвался, не долетев до земли.
Аквиле выбралась на берег и зашагала дальше по обочине дороги. Земля была податливая и теплая, как спина спящего животного, воздух мутный, насыщенный пылью, и небо такое же — запыленный абажур из голубого стекла. Рядом тарахтела телега, которую тащила ледащая сивка. В телеге сидел мужик в сермяжном пиджаке и дешевой сорочке в полоску; из расстегнутого на груди ворота торчала рыжая шерсть. Он смотрел на Аквиле, не решаясь заговорить с ней. Она, кажется, чувствовала это, слышала дребезжание колес, фырканье загнанной клячи, но, не поднимая глаз, все шла по теплой спине спящего животного. Ей казалось, что еще она не родилась, а рядом уже тарахтела телега и фыркала дряхлая сивка, что она умрет, а рядом все будет громыхать вечная ее спутница — телега, заставляя глотать удушливую пыль бесконечных дорог. Потом услышала свое имя, с удивлением посмотрела туда — как в пропасть, где прогремел обвал, — и остановилась. Сивка тоже остановилась, колеса перестали тарахтеть.
— Садись, может, до дому подвезу, — сказал Пеликсас Кяршис, потея от страха, что она откажется.
Впереди, в десятке метров от лошадиной морды, дорогу пересекала узкоколейка. По полотну, далеко отстав друг от друга, шли трое солдат. Они были молоденькие, почти дети. Без оружия, без вещмешков, один даже без пилотки и ремня. У полотна женщина доила корову. Солдатик в гимнастерке навыпуск подошел к женщине и, упав на колени, долго пил из ведра молоко. Потом подоспел второй, за ним третий, и каждый опускался на колени и пил из ведра парное молоко. Женщина стояла, опустив тяжелые руки крестьянки, и печально качала головой в цветастом платке: у нее тоже были дети.
«Увидят ли они своих матерей, бедняги?»
«Они идут домой, — подумала Аквиле. — Все идут домой, у кого есть дом. Один Марюс ищет дом на чужбине».
Она перескочила через канаву и протянула Кяршису вялую, холодную руку.
— Спасибо, если подвезешь. Очень уж печет…
— Сенокос что надо, — проговорил он.
— Да, да…
— И-эх, кабы не война… — Кяршис добавил еще что-то, но она не ответила, и он тоже замолчал.
Аквиле сидела в телеге, ссутулившись, чувствуя рядом робкое сильное плечо; ей было хорошо, что Кяршис не донимает ее расспросами и она может спокойно подумать о своем горе. Мимо проплывали обильные хлеба, встречные знакомые приподымали фуражки — деревня уже была недалеко, — а она все думала о солдатиках, пивших молоко, и о парнях на лугу, которые считали горящие самолеты. И о прощании во дворе исполкома, которое теперь казалось каким-то ненастоящим. Все это она видела будто в тумане. Какие-то пестрые движущиеся пятна. Даже лицо Марюса не могла вспомнить. Словно там была не она, Аквиле, а другая девушка. Аквиле только наблюдала за той со стороны, и ей было жалко, до слез жалко, что девушка так несчастна и она, Аквиле, ничем не может ей помочь.
Потом она увидела военный грузовик, утыканный по бортам ветками деревьев. Уже не в воображении, а настоящий, — он летел навстречу им со стороны деревни. В тот же миг воздух задрожал от оглушительного рева, и в нескольких десятках метров над их головами, яростно стрекоча пулеметами, пролетел желтобрюхий дракон. Грузовик затормозил, солдаты посыпались в кюветы, а сивка, напуганная невиданным чудищем, свернула на подвернувшийся проселок, и телега, прыгая по ухабам, помчалась вдоль ржаного поля. Аквиле лежала, скрючившись, на дне телеги, придавленная чужим телом, и ей было хорошо в теплой темноте, она снова чувствовала на себе сильные руки Марюса, слышала, как гулко бьется его сердце, и вдыхала острый, как кровь, запах мужского пота.
«Плохо без лошади бобылю, — думал Кяршис, пьянея от близости женского тела, — но ее можно купить. А женщину, которая тебе нравится, не достанешь ни за какие деньги. Пускай уж лучше меня убьют».
— Странно, как это мы остались живы, — сказала Аквиле, когда они вылезли из ивняка, куда сивка затащила телегу.
«Правда, — разочарованно подумал он. — Хоть бы ранило…»
— Ну, будь здоров, Пеликсас. Я, можно сказать, дома. — Она кивнула ему и ушла, не подав руки.
— Будь здорова, Аквиле.
Она остановилась, обернулась и через силу улыбнулась.
— Ты хороший, Пеле…
Он проглотил комок, застрявший в горле. Рыжие ресницы плясали, как мотыльки против солнца.
— Вот… Марюс никуда не денется, Аквиле, он вернется!.. — крикнул он, преисполнясь лицемерной доброты.
Вечером она сидела у открытого окна. По деревенской улице летели немецкие мотоциклисты, — разряженные, как на парад, украсив машины цветами, — закатав рукава, они махали девушкам и весело кричали: «Fräulein, fahren Sie mit uns nach Russland! Fräulein, fahren Sie mit!» [4]
Мать стояла у ворот с кувшином пива и знаками приглашала выпить. Но они только качали головами: «Danke schön, Matka. Wir werden in Moskau satt trinken…»[5]
IllНастало утро, потом пришла ночь и снова утро. Время то вспыхивало, то угасало, словно морской маяк. Она была точно погружавшийся в пучину корабль, и каждая вспышка света в каменном мраке казалась последней. Побыстрей бы утонуть! Но время было безжалостно. «Скорее! Скорее!..» — умоляла она. Но время только улыбалось (завораживающая ухмылка дьявола!) и знай крутило один и тот же фильм. И она в тысячный раз видела солдат — тех, пивших молоко, и этих, таких веселых, крепких, самоуверенных, с закатанными рукавами, — и парней на лугу, и других парней — во дворе исполкома, и желтобрюхого дракона, изрыгающего огонь, и, наконец, чужого человека с мохнатой грудью, который укрыл ее, Аквиле, от пуль, словно крепостная стена, а ведь его могли убить. Проклятая карусель! Когда все это кончится? Какая сила остановит убийственно однообразное движение? Можно с ума сойти!