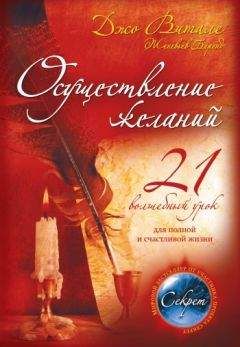Владимир Солоухин - Олепинские пруды (сборник)
Следующий романс — «Белеет парус одинокий» — пелся уже погромче. Потом мы увидели театрализованное представление, и нам стали понятны репетиции Ивана Семеновича, на которые он тратил каждый день утренние часы. Оказывается, он пригласил для участия в концерте четырех девочек из местной музыкальной школы, четырех юных скрипачек. На сцене стало темно. Один луч освещал исполнительниц, другой — Козловского в дальнем углу сцены, черно-серебряного, с руками, скрещенными на груди. Четыре скрипки запели булаховский романс, и каждый про себя подставлял под льющуюся музыку известные всем слова: «Гори, гори моя звезда, звезда любви приветная…»
Скрипки пели протяжно и долго. Козловский слушал и вдруг опустился на колени и протянул руки в сторону музыки. То ли перед поющими скрипками преклонился он, то ли перед расцветающей молодостью, то ли перед великим романсом, но продолжалось все это еще довольно долго, пока наконец совсем незаметно, но постепенно нарастая и беря власть, беря верх над четырьмя скрипками, не возник голос и самого коленопреклоненного певца и никто не успел еще вполне наслушаться, как все потонуло в громе аплодисментов.
Девочки стояли растерянные и самые счастливые на всем земном шаре. Козловский подошел к ним и к каждой прикоснулся каким-нибудь ободряющим жестом, дотронувшись до волос, до щеки, пожав руку. Теперь уж как бы ни сложилась судьба, через тридцать, через сорок лет, в минуту обиды и счастливых воспоминаний, каждая из них скажет кому-нибудь: «Милочка, я на скрипке аккомпанировала Козловскому, когда мне было 12 лет!»
Занавес шел и шел. Козловский бисировал. А я слушал и думал с горечью: неужели, несмотря на все бережение, на рубашки со специальными гигиеническими воротничками, на опущенные стекла в автомобиле, на весь ответственный образ жизни, неужели семьдесят лет все-таки есть семьдесят лет и настоящего Козловского я услышу теперь только в грамзаписи, да и то если не заиграна пластинка и в отличном состоянии корундовая игла?
На другой, послеконцертный день мы с Козловским, отделившись от остальной группы, поехали в Юрьев монастырь.
Некогда богатейшая, процветающая под золотым покровительственным дождем Орловой-Чесменской, опекаемой, в свою очередь, архимандритом Фотием, Юрьева обитель теперь бездействовала, была пуста. Ни сказочных сокровищ (например, иконы «Знамение», вырезанной на огромном изумруде), ни монашеского чина, ни монастырских трапез, ни больших ектиний, ни громогласных дьяконов, ни колокольного звона, расплывавшегося над Ильмень-озером не на двадцать ли верст…
Теперь была лишь ровная, зеленая травка, а на ней белокаменная постройка. Монастырская стена с башнями, посередине грандиозный, второй после новгородской Софии, Георгиевский собор. Так умерший человек все еще сохраняет для живых, смотрящих на него, черты похожести и все как будто осталось прежним: и нос, и подбородок, и руки, но к чему нам обманывать самих себя, человек мертв и холоден, и внешнее подобие его есть самая вопиющая ложь.
Пожилая женщина, гремя ключами, открыла нам Георгиевский собор, и мы вошли в холодное, настоявшееся пространство, ограниченное высоко вверху расписным куполом, а справа от нас иконостасом высотой не с восьми ли этажный дом?
Ключница осталась внизу, а мы по тесной винтовой лестнице поднялись на хоры. Наверное, они соответствовали четвертому, а то и пятому этажу, но и над ними было много еще высоты: добрая половина иконостаса, против которого мы стояли, а выше иконостаса купол, а выше купола пустой барабан — одного его хватило бы на небольшую церковку.
Мы стояли на хорах одни, и не было во всем соборе ни души, ни живого духа. Внизу должна была оставаться еще и ключница, но мы ее не видели, и она как бы не существовала для нас.
Молчали мы каждый о своем, но, надо полагать, что во многих местах молчание наше совпадало, а тишина собора способствовала ему и даже, кто знает, — направляла его в нужную сторону.
И вот тишина лопнула как перетянутая струна, но только без надрывного струнного звука, но тотчас другая живая и крепкая струна зазвучала и мгновенно наполнила звучанием весь огромный собор. Волна восторга расплеснулась во мне от сердца к глазам и горлу. «Ныне отпущаеши…» Рахманиновский вариант известного песнопения был взят сразу и во всю силу «Раба, твоего, владыко…» Акустика ли собора способствовала впечатлению, сама ли необыкновенная минута, необыкновенное душевное настроение, но, может быть, Козловский никогда еще в жизни не пел так красиво и вдохновенно… — «по глаголу твоему… с миром… яко видеста очи мои спасение твое…»
Если правда, что аудитория вдохновляет, то что же за аудиторию держал сейчас певец перед полузакрытыми глазами своими. Голос его лился золотым ослепительным светом, и камни собора, разбуженные и ожившие, каждой песчинкой резонировали ему. «Еже еси уготовал перед миром всех людей свет во откровение языцев…»
Внизу старуха с ключами плакала и бросилась было в ноги певцу, но Козловский поднял ее и успокоил, погладив по плечу:
— Ничего, ничего, бабуся. Запри за нами. Спасибо тебе. Мы пойдем.
…Вот жизнь и подарила мне одно из самых своих лучших впечатлений, из таких впечатлений, которые лежат в памяти золотыми зернами и которых, вообще-то говоря, накапливается за жизнь не так уж много.
Но, извлекая на свет, напоказ людям, каждое такое зерно, приходится все равно извлекать весь колос многих, сопутствующих ему впечатлений, хоть и знаешь из практики молотьбы, что большая часть объема колоса — простая мякина.
…Вечером снова был концерт, и Миша не ошибся на этот раз, и Козловский снова пел разные романсы, и новгородские рабочие и служащие снова яростно аплодировали ему.
Кумыс
Он показывал нам свое хозяйство гостеприимно и широко.
Погода стояла сухая, жаркая. Пшеница все золотилась и золотилась по сторонам полевых дорог, розовато-молочная пыль не успевала за машиной и клубилась сзади длинным рассеивающимся облаком, вроде дымовой завесы на море, растягиваемой быстроходным катером, или вроде белой полосы вслед за самолетом, рвущим небесный шелк со сверхзвуковой скоростью.
Ему, гостеприимному и ревнивому хозяину, оставалось только оглядываться на нас и проверять: правда ли увиденное (хлебное поле, новая ферма, новый магазин) производят на нас то самое впечатление, которое они должны, по его мнению, производить.
Два московских писателя, заехавших в этот далекий от столицы полустепной район, оказались благодарными слушателями и зрителями, потому что, зачем слова, когда все можно увидеть глазами.
Мой друг Алексей занимал… как бы это сказать… промежуточное, что ли, положение между мной и хозяином. Я здесь был более гостем, чем он. Алексей уроженец этих мест, приезжает иногда, давно знаком с местным начальством и, с одной стороны, сегодня пользуется его гостеприимством на правах того же гостя, как и я, с другой же стороны, вместе с хозяином показывает мне свои родные места. Нет-нет и спросит у Александра Васильевича что-нибудь такое, что сам — чувствуется — знает, но что не лишне рассказать или показать мне, впервые объезжающему незнакомые земли.
— Что-то там сверкнуло в овраге? Не новый ли водоем? — спрашивал, например, Алексей.
Шофер Витя глядит уж вопросительно на хозяина, сидящего по правую руку. Александр Васильевич кивнет — и машина поворачивает на полевую дорожку, а то и на межу, к сверкнувшему вдали водоему.
Выходили и трогали руками тяжелые, но еще не затвердевшие колосья пшеницы. Слушали жаворонков. Разглядывали на колосьях черных жуков, напавших на поле. Рассуждали о мерах борьбы с этим вредителем — кузькой и о том, что всякая химия о двух концах. Пили воду из родника в пологом овражке. Осматривали сельский магазин. Заходили в избу к незнакомой старухе и жадно пили, не то холодом, не то перекисшестью своей сводящий нам челюсти, беловатый квас. На берегу реки, в тени огромного вяза расстилали скатерть-самобранку. Пока плавали по светлому зеркалу омута среди кувшинок и округлых кустов, покоящихся на тихой, темной воде, Витя раскладывал на скатерти — добротном куске брезента — содержимое багажника: колбасу, помидоры, консервы, крутые яйца, сало и хлеб: И вот еще ярче становилась окрестная зелень, еще цветистее расцветали луга, еще милее были все люди.
Так или иначе, но должен сказать, что неизвестно чем гостеприимный хозяин постепенно породил во мне, едва ощутимый сначала, а потом все более явственный протест. Не то чтобы неприязнь, а так, червоточинку в отношениях, дребезжащую струнку в слаженном и мажорном аккорде его триумфа. То ли на одну восьмушку тона было больше, чем надо, самонадеянности в его голосе и во всех жестах, и во всем поведении, то ли проскальзывало за внешним доброжелательством некоторое превосходство, то ли я угадал по каким-нибудь репликам, интонациям и словам нетерпимость к другому мнению, но только между мной и Александром Васильевичем возникла постепенно скрытая пикировка, которая не прорывалась пока наружу в открытый спор, но тем не менее привносила в нашу поездку по району явственную перечную остринку.