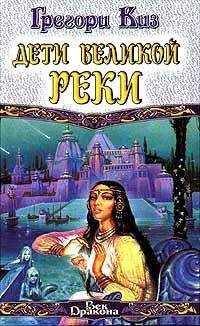Петрусь Бровка - Когда сливаются реки
— Чтобы спинам нашим легче было! — поддержал его взволнованный женский голос из толпы. Вероятно, обладательница его прочла Ярошкин плакат, а может быть, была и на том собрании, когда принимали решение о стройке: там обо всем рассказывали подробно.
— Так станция спины ваши чесать не будет! — сострил кто-то из мужчин под общий смех.
— Чесальщиков на свои спины мы найдем! — не растерялась женщина. — Пусть только руки высвободит...
— А сколько эта станция будет стоить, если не секрет? — послышался из задних рядов хрипловатый голос кладовщика Барковского.
— Ну, ты никогда не спросишь без подковырки, — буркнул недовольно Гаманек. — Вот тут у нас сидит инженер Алесь Иванюта, он вам сейчас скажет...
Алесь побледнел от неожиданности — он не собирался выступать, но делать нечего — вышел к трибуне. Впервые видел он перед собой столько лиц и внимательных глаз. К тому же он помнил, что где-то здесь, в толпе, стоят и мать, и Марфочка, и та, в зеленом платье. Речь его поэтому получилась отрывистой и уснащенной цифрами, значения которых многие не поняли. Несколько раз упомянул он слово «миллион», и, когда сел, из толпы послышался выкрик:
— А где у нас эти миллионы?
— Миллионщики!.. Штаны латаные! — засмеялся Барковский.
— Ну вы, тихо! — поднявшись, гукнул на своих развеселившихся колхозников Самусевич. — Вопрос решен, так нечего толочь воду в ступе...
— Да я что? — струсил Барковский. — Шучу...
— Шути, да с толком!..
Этими репликами разговор о станции кончился. На дощатый помост выскочил Павлюк Ярошка из «Червоной зорьки», и все добродушно засмеялись. Потому, вероятно, что давно знали веселую Ярошкину натуру, а может быть, и потому, что сегодня он выглядел необычно: на шее его шевелил ушками галстук-бабочка, а из кармашка пиджака торчал белый уголок платка, словно у настоящего артиста.
— Прошу внимания!.. Минуточку! — утихомиривал людей Ярошка, и веселый гул постепенно замолк.
Алесь сел около Йонаса Неруты, а рядом с ним — мать и Марфочка, которым почтительно уступили место. По глазам матери, светившимся особенно ласково, Алесь почувствовал, что она гордится им, — всем своим видом она как бы хотела сказать: «Глядите, люди, какой у меня сын!»
Павлюк Ярошка объявил первый номер программы, и на сцене выстроился объединенный хор, в котором перемешалась молодежь всех трех колхозов. Алесь присматривался к участникам хора, одетым в национальные костюмы, и многих узнавал. Заметил он и несколько девчат из колхоза «Пергале», которых встретил на дороге, но среди них не оказалось девушки в зеленом платье. Его удивило, когда он обнаружил ее неподалеку от себя, сидевшую среди пожилых пергалевцев. Девушка грустно смотрела на сцену.
— Йонас, что это вон та ваша девушка, в зеленом платье, не поет вместе со всеми? — спросил он.
— А-а!.. Это Анежка Пашкевичюте, — довольно равнодушно отозвался Йонас. — Она, брат, петь тут не будет, ей нельзя.
— Почему нельзя?
— Вот если бы в костеле да с молитвенником в руках — тогда она запела бы.
— Такая молодая, — пожалел Алесь.
— Молодая, а в костел бегать — ретивая. Вся семья наших Пашкевичусов такая. Пан клебонас[8] для них самый главный человек на свете. Видишь сухаря, что сидит рядом с ней?.. Это Пранас Паречкус, ее дядька, в нашем колхозе сторожем работает... Так он, брат, целую ночь между хуторами бродит и всё свои молитвы тянет.
— Жаль девушки! — сказал Алесь, еще раз окинув взглядом Анежку, и удивился, почувствовав, что ее грусть трогает и волнует его. «А впрочем, ты приехал сюда работать, а не пялить глаза на богомольных красоток! — тут же осудил он себя. — Что скажут о начальнике стройки, который стреляет глазами по первой встречной?»
Хор исполнял латышские, литовские и белорусские песни. Все они горячо принимались слушателями. Ничего удивительного в этом не было — каждый из певцов и гостей, если даже и не знал хорошо языка соседей, слышал эти песни с малолетства. Потом на сцену вышла светловолосая девушка из колхоза «Пергале», и Алесь заметил, что Йонас беспокойно задвигался на месте. Она запела песню о любви, и губы Йонаса зашевелились — он повторял за девушкой:
От твоего взгляда
Сердечко заныло.
Пускай видят люди,
Что я полюбила!..
— Это кто такая? — спросил Алесь.
— Это... Это моя! — покраснел Йонас.
— Как твоя?
— Нет, пока еще не моя... Это Зосите, дочка нашего садовника...
Затем на сцене появился Ян Лайзан. Перед ним поставили цимбалы. Высокий, с седыми волосами, подстриженными в кружок, он поклонился людям и заговорил прерывающимся от волнения голосом:
— Восемьдесят лет прожил я тут, около озера Долгого... Много повидал на своем веку, но такого, как сейчас, еще не видел. Немало я пел дойн, которые сложил наш народ, а вот сегодня я сложил дойну сам и спою вам ее. Простите, люди добрые, если что не так будет...
Он сел на стул и ударил по струнам.
Далеко с Долгого несутся вести — им сердце радо;
Три сына выросли, три статных парня, три славных брата.
Пусть непогода им грозится издали, пусть ходят тучи,
Не поколебать их, ничто не сломит их — они могучи!
Землею родимой их сила вспоена, душа согрета.
Спасибо ж, матушка, земля родная, тебе за это!..
И дрогнуло все вокруг от аплодисментов Яну Лайзану за хорошую песню. Девушки выбежали на сцену и надели старику на голову венок из полевых цветов.
Время шло. Солнце уже низко склонилось к долговскому лесу. Вот оно коснулось острых сосновых вершин. Длинные тени деревьев вытянулись по Антонову лугу. После концерта молодежь разбилась по группам, и в разных местах поляны заиграли гармошки, скрипки и цимбалы. Зазвенели бубенчики, глухо ухнули бубны. Уже несколько пар кружились в вальсе. Мелькали вышитые кофточки долговских девушек: словно разноцветные маки, покачивались и плыли в кепуреле головы пергалевских, шелестели длинные узорчатые платья райнисовских красавиц и, словно крылья бабочек, летели за ними широкие синие, зеленые, желтые и красные концы поясов и лент.
Людно было и около ларьков. Алесю хотелось побродить в толпе, но ему неудобно было отойти от Якуба Панасовича и Захара Рудака, которые все еще толковали о том, как лучше наладить работы на стройке. И только когда к нему подошла мать и спросила, пойдет ли он с ней домой, Якуб Панасович спохватился:
— Извини, Алесь, нас, стариков. Совсем забыли мы, что ты молодой... Может, тебе потанцевать хочется?..
Алесь распрощался с ними, но домой не пошел.
Сумерки наплывали из леса к озеру Долгому и Антонову лугу. На пригорке ярко вспыхнула бочка со смолой, подожженная эглайненскими хлопцами, и все вокруг осветилось. Потом загорелась вторая, третья... И хотя толпа между кострами задвигалась оживленнее и зашумела еще громче, старики начали разъезжаться и расходиться. Алесь встретил Йонаса, тот познакомил его с Зосите. Это была девушка бойкая и смешливая, которая, кажется, не способна ни о чем горевать. Зато когда он еще раз увидел Анежку Пашкевичюте, она еще больше удивила его печальной задумчивостью, особенно заметной на фоне общего веселья при свете смоляных костров. Заметив, что Анежка взбирается в телегу Пранаса Паречкуса, Алесь спросил у Зосите:
— Почему она так рано?
— Да это ее дядька спешит, домой ее гонит. Боится, как бы дурного духа тут не набралась! — засмеялась Зосите. Но в тоне ее прозвучало сочувствие. — Славная она у нас, но запуганная, без отца и Паречкуса боится шагу ступить...
Когда Анежка с Паречкусом проезжали мимо, Алесю почудилось, что, прощаясь с подругами, она дольше других задержала взгляд на нем.
Зосите предложила Алесю пойти потанцевать, но он отказался. Через несколько минут она уже весело кружилась с Йонасом в толпе молодежи.
Алесю захотелось побыть одному. Полузаросшей стежкой пошел он к озеру. Месяц, выплывший над лесом, старался, но не мог пересилить огней, пылавших вокруг. И только когда Алесь отошел подальше, он заметил, как в лучах месяца поблескивает на траве свежая роса. И ему снова вспомнилась Анежка Пашкевичюте. «Интересная девушка!» — решил он, с удивлением отметив, что она не выходит у него из головы.
II
Столярная мастерская в колхозе имени Райниса стояла на краю леса у озера. Это был крытый дранкой сарай, который одним концом нависал над обрывистым берегом, а противоположным упирался в густой ельник. Никаких других строений поблизости не было, только вдалеке виднелся каменный дом бывшего пана Алоиза Вайвода — теперь правление колхоза. Ян Лайзан любил место, где стояла столярная мастерская. Не меньше любил он и свою мастерскую. Он проработал здесь больше тридцати лет: орудовал фуганком и рубанком, пилой и топором. Почти все эти годы его можно было видеть за верстаком, в потемнелых, закопченных сосновых стенах сарая. И смоляные сучки в бревнах, словно черные зрачки, всматривались в него. Одни, казалось Яну Лайзану, смотрели приветливо и дружески, но были и такие, острые и скошенные, что напоминали хитрые и злые глаза самого пана Алоиза Вайвода. А когда стихали визг пилы и стук топора и Ян Лайзан садился отдохнуть на дубовую колоду, до слуха его доносились другие звуки и голоса: с одной стороны, будто рассказывая что-то по секрету, шептались ветки ельника, с другой — рокотали и всхлипывали под ветром волны, точно жалуясь на свою беспокойную судьбу. Часто присоединялся к ним мысленно и сам Ян Лайзан. Пожаловаться ему было на что.