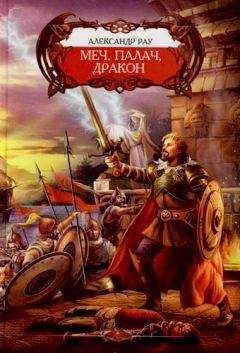Федор Абрамов - Пелагея
Пелагею сейчас занимало другое – та загадка, которую задал ей Петр Иванович. Три года их в забытьи держал, а сегодня позвал – с чего бы это?
Сама она ему не нужна, рассуждала Пелагея, это ясно.
Кончилось ее времечко – кто же нынче станет пекариху обхаживать? Давно люди набили хлебом брюхо. Может, на Альку виды имеет?
Слыхала она, что Сергей Петрович на ее дочь глаза пялит, и намекни ей Петр Иванович: так и так, мол, Пелагея, рановато мы с тобой компанию оборвали, кто знает, еще как жизнь-то распорядится, – да разве бы она не поняла?
Не намекнул.
Она думала: при прощанье шепнет. И при прощанье не шепнул. "Благодарю за уваженье. Благодарю". И все.
Иди, ломай себе голову.
Непонятным, подозрительным теперь казалось Пелагее и то, что позвали их к Петру Ивановичу второпях, когда все гости уже были в сборе. Неужто это не от самого Петра Ивановича шло, а от кого-нибудь другого?
От Васьки-губана? (Так по-уличному, сама с собою, называла она председателя сельсовета.)
Может, может так быть, решила Пелагея. Парень у губана жених. Постоянно возле их дома мотается. Да нет, Васенька, больно жирно. По зубам кусок выбирай. Топором-то нынче жизнь не завоюешь, а что еще твой сынок умеет? Смех! В город ездил, два года учился, а приехал все с тем же топором. На плотника выучился.
Павлу вечерняя свежесть не помогла. Он, как куль, висел у нее на руке.
Она сняла с него шляпу, сняла галстук.
– Потерпи маленько. Скоро уж. У меня у самой ноги огнем горят.
Да, чистое наказанье эти туфли на высоком каблуке.
Кто их только и выдумал! В третьем годе они справили всю эту справу – и шляпу, и галстук, и туфли с высокими каблуками. Думали: с культурными да образованными людьми компанию водят, надо и самим тянуться. А и зря: за три года первый раз в гости вышли.
У Аграфениной избы остановились – Павел совсем огрузнел, и тут, как назло, – Анисья. Выперла на них прямо из-за угла, да не одна – с беспутными Манями.
Павел только увидел дорогую сестрицу, закачался, как подрубленное дерево. А она, Пелагея, тоже поначалу ни туда ни сюда, будто ум отшибло.
И еще одну глупость сделала – клюнула на удочку Мани-большой.
Та – шаромыжина известная:
– Что, Прокопьевна, вольным воздухом подышать вышли?
– Вышли, вышли, Марья Архиповна! Сам лежал, лежал на кровати: "Выведи-ко, жена, на чистый роздух…"
А как же иначе? Не у себя дома-на улице: хошь не хошь, а отвечай, коли спрашивают.
Об одном не подумала она в ту минуту – что бревно стоячее тоже иной раз говорит. А Матреха – мало того что бревно, еще и глуха – просто бухнула, а не заговорила:
– Почто врешь? Вы у Петра Ивановича были…
Вот тут и пошло, завертелось. Анисья – шары налила – давай высказываться на всю улицу: "Вы признавать меня не хочете… вы сестры родной постыдились… ты дом родительский разорила…" – это уж прямо по ее, Пелагеиной, части. Каждый раз, когда напьется, про дом вспоминает.
Ну, понятное дело, Пелагея в долгу не осталась. А как же? Тебя по загривку, а ты в ножки кланяться? Нет, получай сполна. И еще с довесом…
А тут Павлу сделалось худо, его начало рвать. А из окошка выглянула Аграфена Длинные Зубы: дождалась праздничка, есть теперь о что клыки поточить; Толя-воробышек прилетел… В общем, не надо в кино ходить. На всю улицу срамоту развели.
И только одно успокаивало Пелагею – не было поблизости хороших людей. Не было. А раз не было – пыль эта, поднятая у Аграфениной избы, до первого дождя,
– Ты как золотой волной накрывшись… Искры от тебя летят…
Так плел ей, рассказывал Олеша-рабочком про свою первую встречу с ней, про то, как увидел ее у раскрытого окошка за расчесыванием волос. А сама она из той встречи только и запомнила, что резкую боль в голове (лапу в волосы запустил, дьявол) да нахальные, с жарким раскосом глаза. И уж, конечно, никак не думала, не гадала, что ихние дороги когда-нибудь пересекутся. Какой может быть пересек у простой колхозницы с начальником заречья? Шел мимо да увидел молодую бабу в окошке – вот и потешил себя, подергал за волосья.
А дороги пересеклись. Недели через полторы-две, под вечер, Пелагея полоскала белье у реки, и вдруг опять этот самый Олеша. Неизвестно даже, откуда и взялся. Как из-под земли вырос. Стоит, смотрит на нее сбоку да скалит зубы.
– Чего платок-то не снимаешь? Не холодно.
– А ты что – опять к волосам моим подбираешься? Проваливай, проваливай, покамест коромыслом не отводила! Не посмотрю, что начальник.
– Ладно тебе. Убыдет, ежели покажешь.
– А вот и убыдет. Ты небось в кино ходишь, билет покупаешь, а тут бесплатно хочешь?
– А сколько твой билет?
– Иди, иди с богом. Некогда мне с тобой лясы точить.
И в третий раз они встретились. И опять у реки, опять за полосканьем белья. И тут уж она догадалась: подкарауливал ее Олеша.
– Ну, говори, сколько твой билет стоит? – опять завел свою песню.
– Дорого! Денег у тебя не хватит.
– Хватит!
– Не хватит.
– Нет, хватит, говорю!
– А вот устрой пекарихой за рекой – без денег покажу.
Как уж ей тогда пришло это на ум, она не могла бы объяснить. И еще меньше могла бы подумать, что Олеша эти слова примет всерьез.
А он принял.
– Ладно, устрою. Показывай.
– Нет, ты сперва денежки на бочку, а потом, руки к товару протягивай. – И тут Пелагея, к своему немалому удивлению, как бы рассмеялась и эдак шаловливо прискинула платок – дьявол, наверно, толкнул ее в бок.
И Олеша совсем ошалел:
– Ежели дашь мне выспаться на твоих волосах, вот те бог – через неделю сделаю пекарихой. Я не шучу.
– А и я не шучу, – ответила Пелагея.
Через неделю она стала пекарихой – сдержал свое слово Олеша. Со скотного двора ее вырвал, все стены вокруг разрушил – вот как закружило человека.
Ну и она сдержала слово – в первый же день на ночь осталась на пекарне. А под утро, выпроваживая Олешу, сказала:
– Ну, теперь забудь про мои волосы. Квиты. И не вздумай меня снимать. Я кусачая…
Сколько лет прошло с тех пор, сколько воды утекло в реке! И где теперь Олеша? Жив ли? Помнит ли еще зареченскую пекариху с золотыми волосами?
А она его забыла. Забыла сразу же, как только закрыла за ним дверь. Нечего помнить. Не для услады, не для утехи переспала с чужим мужиком. И ежели сейчас этот топляк, чуть ли не два десятка лет пролежавший на дне ее памяти, вдруг и вынырнул на поверхность, то только потому, что, распуская на ночь свой хвостик на затылке – вот что осталось от прежнего золота, – она вспомнила про свой давешний разговор с Васькой-губаном.
Павел уже спал, похрапывая. Пелагея, как всегда, поставила кружку с кипяченой водой на табуретку, положила таблетки в стеклянном патроне и наконец-то легла сама. На перину, разостланную возле кровати, – чтобы всегда быть под рукой у больного мужа.
Она привыкла к храпу Павла (он и до болезни храпел), но нынешний храп ей показался каким-то нехорошим, будто душили его, и она, уже борясь со сном, приподняла свою отяжелевшую голову. Чтобы последний раз взглянуть на мужа. Приподняла и – с чего? почему? – опять ее, второй или третий раз сегодня, откинуло к прошлому.
Она подумала: догадался или нет тогда Павел насчет Олеши? Во всяком случае, назавтра, утром, когда она пришла домой, он ничем не выдал себя. Ни единого попрека, ни единого вопроса. Только, может, в ту минуту, когда заговорил о бане, немного скосил в сторону глаза.
– У нас баня сегодня, – сказал ей тогда Павел. – Когда пойдешь? Может, в первый жар?
– В первый, – сказала Пелагея.
И в то утро она два березовых веника исхлестала о себя. Жарилась, парилась, чтобы не только грязи на теле – в памяти следа не осталось от той поганой ночи.
Но след остался. И мало того, что она сейчас совсем некстати подумала о том, знал или не знал Павел про ее грех; это еще пустяк – кому важно теперь то, что было столько лет назад. А как быть, ежели время от времени, глядя на свою дочь, ты начинаешь думать об Олеше, по-матерински высчитывать сроки?
Не спуская глаз с тяжело дышавшего мужа, Пелагея и сейчас была занята этими вычетами. На пекарню она поступила в сентябре, 11 числа. Алька родилась 15 апреля… Восемь месяцев… Нет, с облегчением перевела она дух, восьмимесячные не рождаются, рождаются семи месяцев, да и то еле живые. А про Альку этого не скажешь.
Алька, как кочан капустный, выкатилась из нее. Ни одной детской болезнью не болела.
Однако закравшееся в душу сомнение – не сорняк в огороде, который вырвал с корнем, и делу конец. Сомнение, как мутная вода, все делает нечистым и неясным.
И сколько ни доказывала себе Пелагея, что Алька никакого отношения не имеет к Олеше, полной уверенности в этом у нее не было.
Конечно, восьмимесячные не рождаются, да и какая мать не знает, кто отец ее ребенка, но откуда у девки такая шальная кровь? Почему она смалу за гулянкой гонится? Раньше, до нынешнего дня, она не сомневалась: в тетушку Анисью Алька, от нее кипяток в крови, потому и невзлюбила ту, а сейчас и в этом уверенности не было.