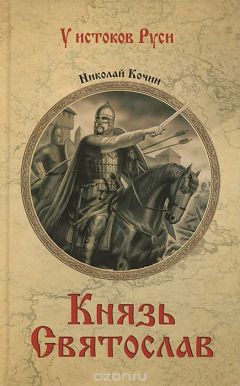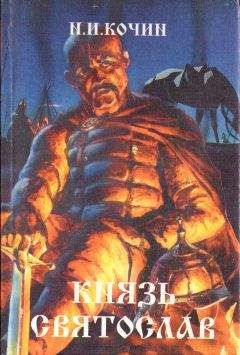Николай Кочин - Девки
— Ты эти странные причеты оставь, — сказала Парунька сухо, — оденься как следует и рассказывай. Все ли отцу известно?
Марья махнула рукой и, всхлипывая, ответила:
— Боюсь даже и словом ему поперечить
— Выходит, попускаешь глупость... Отрежь напрямки ему — жить мне, мол, с таким обормотом непереносно, теперь мужей находят по сердцу.
— А он скажет на это: «Жили люди бывало...»
— Они этим «бывалым» в гроб вгоняют. Я, Марюха, много разного передумала за это время. Вижу, баб призывают туда-сюда и свободу для них открывают, а со свободой опять валятся на них многие неприятности. Хоть ты, хоть я вот... Тебе поведали обо мне?
— Поведали. Я, Паруха, не поверила.
— Факт! Обманул он меня, а человек светлый, все законы знает. И выходит — светлота опять нам капкан ставит. Выходит — бабе что от светлого, что от темного — одна тошнота. Куда же кинуться?
Она помолчала, потом сказала задумчиво:
— Вот какая дума у меня: работящей бабе в нос не щелканешь, значит, нужно на самостоятельные рельсы вставать. Разве мало наших встали?
— Кажись, лучше в омут головой, чем замужество, Паруха, — не слушая, сказала Марья. — Изживет он меня, Слюнтяй, не выдержит мое сердечушко, не такая я твердая сердцем, как ты, Паруха... Не люблю ведь я его.
Невеста припала к сундуку и заголосила навзрыд:
— До последних кочетов немало у меня с ним ночей было сижено, немало в тайны ноченьки ласковых речей бывало с ним промолвлено, немало по лугам с ним было хожено, по рощам, по лесочкам было гуляно... Ох, расступались перед нами кустики ракитовые, укрывали от людей стыд девичий, счастье молодецкое!
— Слезами горю не поможешь... Зачем Слюнтяю согласие дала...
— Не давала я...
— Ну, промолчала. Всю жизнь молчишь — не дело. Иди да скажи: не хочу за Слюнтяя, сердце не лежит...
— Убьет отец... Ведь икону целовали...
— Всю жизнь иконы бабы целуют, а толку от того ни на макову росинку...
Неожиданно в горницу явился отец, довольный удачной сделкой. Он увидел дочь в слезах, и улыбка разом сошла с его лица.
— Мутят тебя да с толку сбивают всякие, — сказал он, злобно взглянув на Паруньку.
— Не лишай меня воли девичьей, — сквозь слезы ответила дочь.
— Это что за воля еще такая? Шестой десяток у меня на исходе, а про такую волю не слыхивал, и отцы мои не слыхали, и деды не слыхали... Ой, Марьюшка, не баламуть! Свихнуться нынче больно просто.
Он повернулся к Паруньке:
— Разбить жисть подруги тебе любо, коли сама замарана? Поди прочь! От тебя и на нее мораль пойдет. Выбирай подруг по плечу себе...
Он выгнал ее из горницы. А дочери сказал:
— Парунька — бобылка, последняя девка на селе... Богова ошибка, на смех парням рождена. Тебе не пара. И на свадьбу-то ее приглашать — так только срамиться... Платьишка изрядного нету...
Вернувшись домой. Парунька почуяла в голове ломоту и, не притронувшись к пряже, легла на печь.
Сон убегал от нее. Подруги часто хлопали дверьми, входя с разговорами, с новостями. В углу причитала Улыба — самая богатая девка на селе, у которой числилась в приданом кровать со светлыми шишками и которую обошел Ванька в сватовстве.
— Тебя любой возьмет, тебе не быть вековушей, — уговаривали ее подруги, — каждая из нас, имея кровать такую, и «ох!» бы не молвила.
— Он мне слово дал, — тянула Улыба, — я на это слово облокачивалась, других парней к себе не подпускала...
У Паруньки в голове пронеслось: «Исстари положено на селе ту считать красовитой, которая срядой богата. [Сряда — праздничная одежда.] Никак людей не уверишь, что девка без приданого особо существовать может, как ценный человек».
Ей разом припомнились случаи, когда та или иная подруга из разряда «так себе» поднималась в глазах у всех до положения лучшей невесты, как только приобретала швейную машинку Зингер или кровать с горой подушек. И тогда нельзя уже было никого из старших уверить, что она некрасива или неработяща. Всяк на это ответил бы:
— Тебе завидно такой удаче, вот девку и позоришь.
И сразу матери начинали внушать сыновьям: хоть она, мол, и не изрядно красовита, да зато походкою взяла. А если и походкою девка не вышла, возьмут да выищут: умильной, мол, очень уродилась, словоречивой, — примечательная в дому будет собеседница... И никому уж не разуверить, что и при машинке девка осталась такой же, как была.
Федор Лобанов не всегда понятливо, но часто об этом толковал:
— В плену мы собственнической стихии, вроде надбавки к ситцевым сарафанам да кроватям существуем.
«Господи, глумление какое в людях пошло! — думала Парунька. — И не одну меня оно щиплет за душу. Каждая ожидает своей судьбы... Я судьбу в городском человеке искала, а кончилось тем, что надул. Бобылку порченую кто возьмет?».
Крикливые голоса разрывали нить Парунькиных раздумий.
«Куда жизнь катится, кому на руку эта жизнь катючая, ежели и при этой жизни девок забижают? Стало быть, не возбраняется и теперь бесчинствовать над женским сословием? Выходит, ораторы врали, и Анныч врал? Значит, никому бабья не приметна тоска?»
Так далеко за полночь не смыкала глаз Парунька. Думы прогоняли дремоту... А поутру разбудил стук в окно. Стучали часто и смело. Подняв голову с ворохом каштановых волос, она заспанно прокричала:
— Какая сатана с этих пор?
На лавке проснулась задушевная ее подруга Наташка, повернувшись широкой спиной к стене, зевнула:
— Федьку пес несет...
Парунька спрыгнула с печи.
Утренний мороз размалевал окна узорами; сквозь них шел с улицы свет. В избе еще было сумрачно, в углах прятались остатки ночного мрака. В нижней рубашке вышла она и открыла дверь. На улице было снежно. И шапка и плечи дубленого полушубка Федьки запорошились, с валенок падали комья снега.
Он сбросил заячью шапку на приступок и оголил свой широкий лоб и светлые редкие волосы. Сказывалась в нем неповоротливость, затаенная угрюмость. Сел он под образами, у Наташкиного изголовья.
Наташка высвободилась из-под одеяла голыми руками поправила рубаху.
— Что, полуношник, или сна нету? Проворонил девку-то?
Федька промолчал, оборотился к Паруньке. Она, подняв кверху руки, надевала сарафан.
— Паруня, скажи, верно, Бадьина за Ваньку идет?
— Девишник в среду.
— С охотой идет?
— А тебе что?
— Известно что! Знать интересно.
Он заглянул на полати, на печь — пусто. Продолжал:
— Тоска, Паша, ужасная. Поговорила бы ты с ней.
— Сама она умом не обижена. Да отец у ней сатана, исполосует, если поперек ему Марюха пойдет.
— Вот ведь чепуха какая, Паша! Любовь друг к другу налицо, а при таком вот сложившемся моменте даже свидеться невозможно. Разве сходить к отцу?
— Отцу и глаз казать не моги. Говорят про тебя: «До Красной Армии озорником был, а тут уж вовсе извольничался. Книжки читает, а надеть нечего. На сходках о бедняках да о кулаках кричит, умнее стариков хочет быть...» На порог он тебя не пустит!
Парунька поплескала над лоханью в лицо водой, пофыркала и, утираясь, искоса взглянула на Федора. Тот, скорчившись под образами, сосредоточенно и молчаливо смотрел в одну точку.
— Эх ты, головушка-голова, буйная, забубенная! Парунька шутливо ударила его утиральником. — На собраниях сокол, а у девок хуже вороны. Отчего это вот всю землю вы перевернуть можете, а девку отвоевать не можете?
— Это, Паша, другой вопрос...
— Такой вопрос, что нос не дорос... И никто вас за первых людей не принимает, а в волости, говорят, вы — сила. Бывало, перед старшиной шапки снимали, а про тебя только скажут: «Вон Лобан Федька идет, спорщик проклятый».
— Брось дурака валять, Паша, тебе самой известно, какая здесь темнота.
— Распознала я и вашего брата светлоту! Тоже хороши гуси! Форсу три короба. Вон Бобонин всем говорил: я-де русский, на манер французский... А на поверку выходит — трепло. Испортить девку, да охальничать над ней, да бахвалиться..
— Лично я, Паша, не заслужил этого. И вообще научиться бы надо тебе отличать своих.
— Много ли таких, как ты? Над тобой вот и насмехаются: «В новом быту спать с девкой не положено, в сельском деле баба тоже строитель». Слух ходит, все ли, говорят, у него на своем месте?
— Дураки!
— А отчего вы, умные, свои законы разом не поставите на практику: бабу не бей, за волосы не таскай, за богатством не гонись, а уважай человека, равняй людей пожитками? Ты коммунист, и власть ваша, а отчего ты голышом живешь, а Канаш, старорежимной души человек, блаженствует? Выходит, языком ораторы болтают, а выполнять дела некому?
— Жизнь с корня должна изменяться.
— Как это понимать надо, с какого корня?
— С очень простого, — сказал он, раздражаясь. — Когда совместно будут пахать и сеять, станут время распределять иначе... Я не раз говорил тебе об этом, — помнишь, когда речь зашла о нарушениях старой жизни, церковных обрядностей? Устрой деревню иначе, и интерес проснется иной, к избе-читальне, к собраниям и агрикультуре... Безвозвратно уничтожится вся эта кутерьма поминок, крестин, свадеб, бесконечных молебнов, хлебодарных именин, праздников двунадесятых, престольных и придельных, беспросыпных магарычей и варварских угощений с квасом, с самогоном, с водкой, с блевотиной по углам.