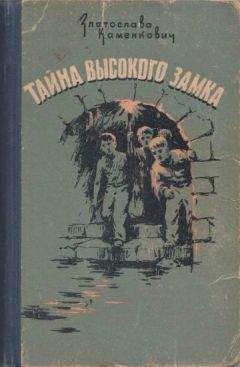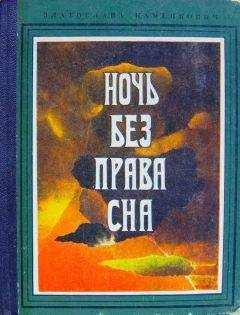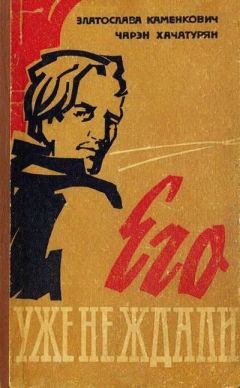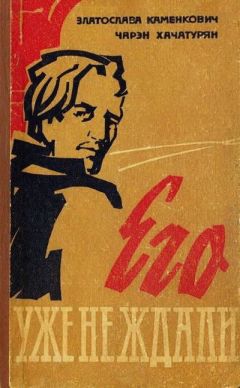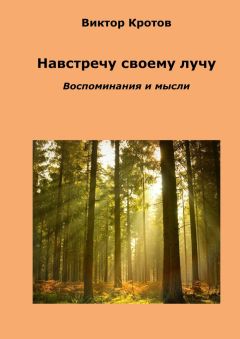Златослава Каменкович - Опасное молчание
…И все-таки мать уступила: пусть уже живет, раз законная жена… Но отец ничего не должен знать: Мелану, наверно, надо прописать как домработницу, а там будет видно.
Когда же тайное стало явным и нельзя было больше скрывать, что Мелана ждет ребенка, профессору сказали правду.
Охваченный яростью Иванишин потребовал, чтобы сын вместе с «этой хамкой» немедленно убрался ко всем чертям! Он не даст Алексею и гроша! И уйдет Алексей лишь в том, в чем сейчас стоит! Пусть мокнет под дождем, как бездомный пес! И чего он только не наговорил, исполненный неукротимой злобы…
Мелана увела Алексея к своим родителям. Они старались ему во всем угодить.
Алексей решил оставить учебу и устроиться в газету фоторепортером.
— И думать не смейте бросать университет, — решительно возражал отец Меланы. — Теперь не те времена, когда о куске хлеба приходилось думать. Заработок у меня приличный. Наш стекольный завод дом строит, скоро квартиру получим, а пока — в тесноте да не в обиде…
Месяца не прошло, когда Иванишина, подкараулив в подъезде Алексея, возвращавшегося из университета, грохнулась перед сыном на колени, со слезами умоляя одуматься, вернуться домой.
Алексей сдался.
Окончив филологический факультет, Алексей не стал преподавателем, его потянуло к журналистике. Он пошел работать в газету.
Глядя на весело плясавший в камине огонь, Алексей курил и размышлял: «Мелана гордая, этого от нее не отнимешь… Но как же тогда, черт возьми, она могла амнистировать Ковальчука, который и ее окунул в грязь?.. Влюбилась?.. Но ведь она обрадовалась, когда увидела меня на лестнице?.. Да и впустила к себе… — В душе Алексея зашевелились недобрые чувства и к матери, и к покойному отцу. — Это вам я обязан, что порвал с Меланой… Вам обязан «счастьем» с Верой… Все уши тогда прожужжали:
— Веруся не менее красива, чем Мелана, — уговаривала мать. — С каким вкусом она одевается. Как и ты у нас, единственная у родителей.
— Породниться с такой семьей… — говорил отец, — это заткнуть рты всем злопыхателям! Профессор Иванишин, видите ли, «не воспринял советов!» Посмотрим, что они запоют, когда мой сын женится на дочери директора института.
— Ах, как Веронька играет на рояле! — восторгалась мать. — Я всегда мечтала только о такой невестке!
Женился… Потом оккупация… Правда, всю войну его прятали в Трускавце у Вериной бабушки… После освобождения Львова легко устроился в редакцию…
И вдруг как гром с ясного неба фельетон Ковальчука…
«Нет, ничего не забыто: и мой вынужденный уход из газеты, и позор, загнавший меня на без малого четыре года учительствовать в сельскую дыру, и сегодняшнее унижение перед тобой… Наш поединок, Ковальчук, — впереди!
Но сейчас важно, чтобы именно ты подписал мою книгу в набор… Это кое-кого обезоружит»…
Мелана принесла и поставила перед Алексеем чашку кофе.
— А себе? — спросил он.
— У меня больше нет посуды, — смущенно призналась Мелана. — Я потом.
— Смотри, ты же вся дрожишь. Тебе холодно? — он снова пытался ее обнять.
— Не надо, — мягко высвободилась Мелана.
— Можно подумать, что мы уже совсем старики! — Алексей еще настойчивее прижал к себе Мелану, ловя ее губы.
— Нет! — вырвалась Мелана. Ей вдруг показалось, что со всех углов комнаты на нее с укором смотрят глаза сына.
— Ты стала недотрогой, — Алексей перешел на полушепот, — я тебя не узнаю…
— Вы собирались мне что-то сказать, — переводит дух Мелана, точно она быстро шла в гору.
— К чему это «вы»? Мы не чужие… Какая ты красавица.
— Видно, оттого, что долго умывалась слезами.
— Ах, чертенок ты эдакий! Видишь, что со мной творится?..
— Обычно так говорят, если человек влюблен, — еще дальше отступила Мелана.
— Как знать? Иногда разлучаются, сами того не желая.
Любуясь ее грациозной, совсем девичьей фигурой, Алексей сравнивал Мелану с женой, которая располнела после родов, вечно ноет: «Голова разламывается… Печень болит…»
— Иди ко мне, милая… — прошептал Иванишин.
«Милая… — Мелану душит горький дым обиды. — Если бы ты любил меня, не бросил… И не было бы в моей жизни Димарского, не было бы таких дорогих утрат… Вот еще не хватает, чтобы разревелась!»
— Я жду, Мелася…
— Ты получил разрешение у папочки? — спросила Мелана, и Алексей встретился с твердым взглядом, в котором уже угадывался характер. — Ты ведь спрашивал у Ковальчука о сыне? Или это была только поза?
— Твоя ирония неуместна, — вспыхнул Алексей. — Старик месяц назад умер. Мы остались вдвоем с матерью…
— А твоя жена?
— Разошлись, — солгал Иванишин, охваченный горячим желанием стиснуть Мелану в своих объятиях.
Неожиданно в передней раздался звонок.
— Кто это пришел? — насторожился Алексей.
— Не знаю.
— Может, он?
Мелана посмотрела на Алексея глазами, полными упрека.
— Никакой «он» не переступает порога моей квартиры.
Кто-то, потеряв терпение, принялся звонить и звонить без перерыва.
— Скорее всего, это Ганнуся! Она за тетрадью… Видно, Петро уже хватился…
— Какая Ганнуся? Что за тетрадь?
— Сестра Ковальчука. Дайте, пожалуйста, тетрадь, вон на диване.
— Я не хочу, чтобы она меня здесь видела, — вдруг всполошился Алексей. — Куда ты меня упрячешь?
— Пройдите туда, на кухню, — вынуждена была сказать Мелана.
Захватив пальто и шапку, Алексей второпях подал Мелане тетрадь, не заметив, как оттуда что-то выпало на пол, и быстро ушел на кухню.
Мелана с тетрадью бросилась в переднюю. Поговорив там с кем-то, она вскоре заглянула на кухню.
— Ложная тревога, выходите. Это дворник, напомнил о квартплате.
— Дать тебе деньги?
— Что вы? — густо покраснела Мелана. — Я сама достаточно зарабатываю.
В комнате Алексей нагнулся и поднял с пола фотографию. С открытки на него глядели пристальные глаза незнакомого человека лет сорока. На петлицах его военной гимнастерки было по четыре ромба, а на груди — ордена.
— Кто это? — спросил Алексей, впрочем уже сам читая на обратной стороне фотографии: «Дорогой друг Сашко! На нашем пути еще много трудностей, много препятствий, много классовых битв, но нам все это не страшно, победа нам обеспечена, история за нас.
Твой Ян Гамарник.
1936 г. Москва».
— Гамарник?! Откуда у тебя эта фотография?
Мелане почудилось в голосе Алексея что-то похожее на упрек, осуждение.
— Не знаю… А-а, это могло выпасть из тетради. Мне можно позавидовать. Я — самая первая читательница будущей книги Петра Ковальчука.
— О чем эта книга?
— Сразу как-то и не расскажешь. Пока это только цикл тетрадей. Много хорошего там о докторе Кремневе, его дяде Александре Кремневе, которому эта фотография подписана, и об их товарищах. Они такие бесстрашные люди! Вобщем, о разных судьбах, — и Мелана еще раз доверительно прошептала, будто опасаясь что кто-то может подслушать: — Никто, ни одна живая душа, кроме автора и меня, еще не читала этого. Сестра Ковальчука дает мне тетради совершенно секретно от брата. А самой ей некогда читать…
«Не было случая еще, чтобы необожженный кувшин сохранил воду, решето — муку, а женское сердце — тайну», — припомнил Иванишин индусское изречение и взглянул на Мелану с едва уловимой насмешливой улыбкой, которую он унаследовал от отца. «Несомненно, Ковальчук размахивается на большой многоплановый роман. Да, этот доктор Кремнев может привлечь писателя своим ясным, отточенным умом и сильным характером. И все же… хорошо, что я тогда не выступил с очерком о нем, когда он баллотировался в депутаты горсовета… А я еще огорчался, когда не мне поручили этот материал»…
— Александр Кремнев — дядя доктора? — осторожно переспросил Иванишин.
— Да, брат отца Евгения Николаевича.
— Ковальчук ничего не рассказывал о последних днях жизни Яна Гамарника?
— Последних днях? Разве он умер?
Мелана всегда обезоруживала Алексея своей незащищенностью, наивной доверчивостью и откровенностью. Осталась ли она такой же? Кажется — да…
«Тем лучше, если она не знает о бесславном конце человека с четырьмя ромбами на петлицах, — сказал себе Иванишин. — Одно мое неосторожное слово может все сорвать. Мелана сболтнет Ковальчуку, тот смекнет, что дело плохо, и заметет следы… Только бы мне заполучить эту тетрадь и фотографию, тогда, Петро Ковальчук, ты в моих руках… А пока надо как-то забрать мою рукопись у него…»
Не очень-то надеясь, что Мелана согласится дать тетрадь, Иванишин на всякий случаи с жадностью «заглатывал» страницу за страницей. Но каждая страница дышала оптимизмом, светлым, весенним ощущением жизни. Иногда строчки писались спокойной рукой, иногда рука спешила за мыслью, и тогда это угадывалось по неровным строчкам. Свежесть, пылкая искренность, юношеский задор заставили Иванишина не на шутку волноваться.