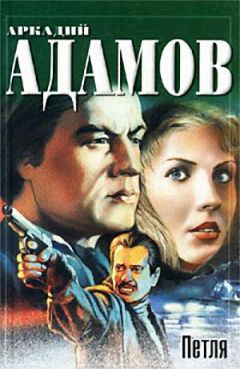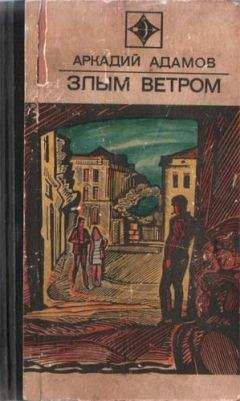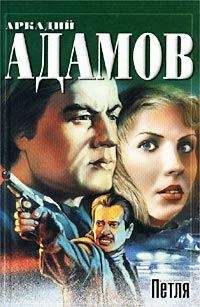Анатолий Жуков - Дом для внука
Щербинин закурил. Окутавшись дымом, сказал с горестным сожалением:
— А я думал, ты сильнее. Молодость свою предал, людей, которые верили тебе, выбрали тебя, властью.
— Грех это, — смиренно молвил отец Василии. — Никто не властен над людьми, кроме бога.
— Как же не властен, когда тебя так мытарили?
— Бог послал нам испытания за грехи наши, чтобы очиститься, предуготовиться к лучшей жизни на том свете.
Щербинин вздохнул:
— Нет, Василий, если на этом свете мы, живые, ничего не сделаем для живых, зачем же нам жить на том свете для мертвых? Какой смысл?
— Смысл жизни — в служении всевышнему.
Говорить больше не хотелось. Перед ним сидел не товарищ, не союзник, даже не попутчик в этой жизни — слуга божий перед ним сидел, раб, чуждый своим смирением и непригодный к борьбе. Спросил только, не его ли прихожанка Кукурузина, самогонщица. И, услышав утвердительный ответ, посоветовал не распускать свою паству, иначе не видать ей царства божия. А насчет трактора позвонил в совхоз Межову, велел дать.
Затем зашла свинарка Феня Хромкина, крупная, сердитая, громкая, положила перед ним какую-то тетрадку в мазутных пятнах, стала горячо и требовательно говорить. А он еще видел перед собой Ваську Барана, молодого, веселого, решительного строителя социализма, образ которого затемняла тень волосатого старика, хлопотавшего о дровах, и не слышал новую посетительницу, не понимал. Только когда она выговорилась и умолкла, посмотрел осмысленно на нее, потом на список, посетителей, где под номером шестым значилась Буреломова. Вот, значит, какая серьезная фамилия у Сени Хромкина. Сколько раз вспоминал и не мог вспомнить.
— Что тебе, Феня?
— Я. же говорила, аль не слыхал?! Перевести его надо из возчиков куда-нибудь к железкам, житья никакого нет: до полночи стучит, после полночи чертит, пишет. Вот опять цельную тетрадку исписал, грому на него нету!
Щербинин взял тетрадку, перелистал — чертежи, рисунки, описание очередного Сениного изобретения. В конце прочитал: «Только машина может освободить человека от рабского труда и сделать его счастливым». И этот — верующий. В машины.
— Да еще в школе учится. Пятьдесят лет, а он за парту с молодыми — с ума сходит мужик.
Феня была нарядной по случаю этого посещения, в черной плюшевой жакетке, в пуховом белом платке, который она развязала, показывая черные, хорошо промытые и блестящие волосы, в новых чесанках с калошами, румяная не то от мороза, не то от волнения. Наверно, от волнения, потому и кричала так бестолково.
В девках она была красивой, бойкой, но слишком вольной и охочей до мужиков. Щербинин вспомнил, как он ездил в луга на сенокос, без кучера, на дрожках, и вечером Феня под каким-то предлогом отпросилась в село и поехала с ним. Села сзади и почти полдороги прижималась к нему грудью, беспричинно хохотала, а когда Щербинин прикрикнул на нее, разревелась и убежала опять в луга. Но не успокоилась, старалась попадаться ему на глаза, завлекала. Было ей тогда лет девятнадцать. Непонятно, как она вышла за Сеню Хромкина, такая смелая и красивая. В Хмелевке его никто всерьез не принимал — чудак, блаженный человек.
— Ругаешься, а сама за него вышла. Или не знала?
— А за кого мне выходить? До войны гуляла, а после войны женихов не осталось. Которые остались, так мне не достались — молодые невесты подросли. Переведи ты его куда-нибудь к железкам, Андрей Григорьич, Христом-богом прошу! — и поглядела на него с многообещающей бабьей мольбой. Она помнила о той давней неудаче в лугах и не понимала ее, единственную свою любовную неудачу: мужики сами липли к ней, ни один не пропускал даровщинку ни тогда, ни после, а к Щербинину ее тянуло, во сне видела; она тогда стыд и совесть позабыла, предлагала себя ему, непохожему на других и желанному.
Щербинин понял ее взгляд и невольно улыбнулся. Если бы вернуться в те годы, может быть, он не был бы таким строгим, хотя едва ли.
Он снял трубку и попросил соединить его с Веткиным. В РТС оказалось свободным место слесаря, но Щербинин, подумав, нашел это место неподходящим для Сени с его тягой к изобретательству.
Позвонил в совхоз Межову, тот обрадовался, сказал, что сам думал об этом, и предложил должность механика по трудоемким процессам в животноводстве. Это уже кое-что. У Мытарина в колхозе тоже есть, кажется, такая свободная единица, может, и там работы хватит.
— Вроде договорились, — сказал он Фене, положив трубку. — Будет твой Сеня механиком.
А она словно не слышала. Встала перед ним, закинула руки, поправляя темные волосы, повязала снежный свой платок, который надевала только по большим праздникам, и, вся красная от волнения и решимости, выдохнула:
— А я ведь тебя любила, Андрей Григорьевич! И пошла от него неспешно, колыхая широкими крутыми бедрами.
Проклятая баба! И годы не берут. Хотя какие еще годы, чуть постарше Глаши, муж — одна видимость.
Зашел Мытарин Яка. Снял у порога шапку, прошел к столу, сел осторожно на скрипнувший стул, достал из кармана кривую самодельную трубку.
— Курить-то можно? — спросил хмуро.
— Кури, — Щербинин не сводил с него пристального взгляда. — Я вызвал тебя, Яков, как егеря охотничьего хозяйства. До сих пор не знаю, что у нас есть и чем ты занимаешься.
Яка набил трубку самосадом из кисета, разжег, выпустил клуб желтого едучего дыма.
— Не на охоту собрался?
— Нет, — сказал Щербинин, — не до охоты.
— В бумагах зарылся, значит. Выкинь их. — В людях, Яков. Их не выкинешь.
— И их можно, не велика ценность.
— Ладно, давай ближе к делу. У меня мало времени.
— А у меня больше, что ли? — Яка затянулся так, что провалились плохо выбритые щеки, проглотил, из ноздрей хлынули две струи синего дыма. — Что же, слушай, рассказать недолго. Прежние бы лесные угодья, тогда конечно, а сейчас островки остались. Что у нас есть? Заяц есть, лиса, волков семей шесть осталось, лоси. Этих много и в Коммунском лесу, и в совхозном, у Яблоньки, и вокруг Уютного, где колония. Можно разрешить отстрел, а то посадки портят.
— Сколько?
— Отстрелять? Голов десять можно. Вокруг Уютного. А в совхозном и у Коммунской горы надо с годок подождать. Бобров после затопления много погибло, остались на Утице четыре семьи да на татарской речке семь. Белки нет, барсук вывелся, кабан тоже, косуля. И хоря мало, двух только видал.
— Куры целее будут.
— Нет, он полезный, сусликов жрет. И ласка, эта — мышей.
Задумался, расслабился и рассказал о ласке трогательную историю. О том, как она любит лошадей, как заплетает им косички ночью, а они стоят в это время, нежатся и думают свои лошадиные думы. Им приятно потому, что ласка любит соль, и вот слизывает пот с лошадиной шеи, а косички заплетает, гриву путает или узелок вяжет — для того, чтобы ей ловчее держаться: это лестница. А то тряхнет лошадь головой, и с гладкой гривы ласка сорвется, упадет. Вот она и заплетает косички. А лошади приятно, что шею, потную под хомутом, очистят, вылижут…
Это уж крестьянин в, нем говорит, а не охотник, подумал Щербинин, глядя на седого, горбоносого Яку, мечтательно сощурившего выпуклые лошадиные глаза.
Промысловой птицы тоже, оказывается, нет: уток всех видов — исчезли озера и места гнездовий, дудаков (дрофа — по-научному) — исчезли луга, степи; глухарей и тетеревов — слезы, им лес хороший нужен. И мелкая птица гибнет, эта от самолетов: раскидывают на поля разную гадость, сорняки уничтожать, и мрет все живое.
— Совхозное начальство жалуется: в Яблоньке волчица ягнят таскает, — сказал Щербинин.
— Знаю.
— Говорят, будто не волчица даже, а собака. То ли одичавшая, то ли бешеная.
— Слыхал и про это. Найду к весне.
Позвонила, Глаша, напомнила, что пора обедать. Щербинин досадливо сказал: помню, и опять уставился на Мытарина.
— Сиротское хозяйство, — подытожил Яка. — Пустой край. И земля не обиходована. Пашут ее в колено каждый год, переваливают, а удобрять некому, золой сделали. Весь район я пешком обошел — нет за ней догляду.
— Вот и давай поможем колхозникам, — сказал Щербинин. — Заселим полезным зверьем и птицей, обиходим. Одному трудно, а вместе, колхозами, большими коллективами — осилим.
Яка поглядел на него с сожалением:
— Как же осилишь, когда ни лесов, ни Волги, ни земли той нет! Ты меня не слушал, что ли?.. А в коллектив я не верю, ты знаешь, нечего напрасно говорить.
— А во что ты веришь, Яков?
— Ни во что, Андрей, ничего не осталось.
— А жизнь? Люди? С собой их возьмем, что ли? Пока живы, надо работать, надо стараться изменить и жизнь и людей. Мы воевали с тобой за это.
Яка вздохнул, поднялся, спрятал в карман полушубка свою вонючую трубку.
— Нельзя ничего изменить, Андрей. Жизнь от человека идет, а человек, пока у него есть рот и ж…, останется таким же. Вот если бы у него не было рта, стал бы он праведником, а так ему каждый день есть надо, три раза в день есть, хоть при той власти, хоть при этой — брюхо, как злодей, старого добра не помнит. — Яка надел шапку, кивнул на прощанье и пошел, косолапя, как медведь, из кабинета, большой, несогласный, самостоятельный, как всегда.