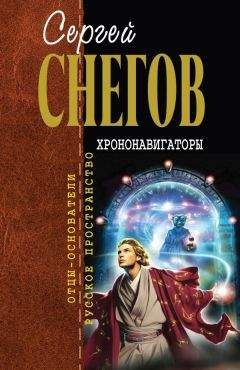Зоя Богуславская - Посредники
Сбруев поддерживал в нем слабую надежду на возможное смягчение участи. Но для этого он, Никита, должен был со всей откровенностью осветить ситуацию в гараже, по возможности не восстановив против себя судью и народных заседателей. Надежда адвоката смягчить приговор основывалась на внутренней его убежденности — в противовес обвинению — в том, что действия Никиты не были преднамеренными, заранее запланированными, но найти неопровержимые доказательства для подтверждения этого внутреннего убеждения было Сбруеву труднее всего. Никита это хорошо понимал. Но он не решался дать адвокату, далекому от его жизни человеку, те сведения, которые хотя бы объяснили истинную причину происшедшего. Он считал это абсолютно бесполезным. Во-первых, он сам ничем не мог подтвердить свой рассказ, вернее, то доказательство, которое у него было, он не хотел приводить. Приведи Никита его — он вынужден был бы открыть суду тайные стороны жизни его семьи, что было для него невозможно. Во-вторых, этот последний аргумент тоже мало что изменил бы в деле, потому что скрытые обстоятельства, заставившие его ненавидеть Мурадова, не могли вызвать сочувствия у других людей, в том числе у адвоката. И Никита петлял в показаниях или отмалчивался. Сбруев конечно же чувствовал уклончивую неоткровенность подзащитного, и это не улучшало их взаимоотношения. Но Никите сейчас было все равно. Уже недели полторы, как впал он в полную апатию, не нарушаемую ничем, кроме редких приступов отчаяния и мыслей о самоубийстве, и мечтал только об одном: чтобы все поскорее кончилось и суд был позади.
Но вот сегодня нестерпимая мысль о разбирательстве его преступления в присутствии родных и знакомых овладела им с новой силой. С удивлением он обнаружил сейчас, что все остальное — сколь бы жестко с ним ни поступала судьба — было, как оказалось, гораздо легче выносить: физическую боль, опасность ареста, скитания по чужим квартирам и городам, допросы, которым, казалось, не будет конца, — чем эти пять-шесть дней процесса, которые ему предстояли.
От рокового решения покончить с собой его останавливала еще мысль о С о н е. Пожалуй, это было единственное, что теплилось в нем, но и оно пробуждалось все реже. Соня работала санитаркой в тюремной больнице, где полгода назад он пролежал дней двадцать, и у нее должен был родиться от него ребенок. Мысль об этом существе, которое появится на свет, взамен его жизни или, во всяком случае, с иной судьбой, чем у него, вызывала в его душе непонятное движение.
Сейчас, когда все ценное и несущественное сместилось в его представлении, он вдруг осознал, что привязан к этой неказистой, малоподвижной Соне с мелкими перманентными кудряшками, не очень-то образованной и совсем не шикарной, и что ему безразлична Галина Козырева, сероглазая полногрудая актерка, на которой он недавно женился во Владимире и ради которой добывал эту проклятую машину.
Он знал, что Галина бросила свои спектакли, ходит из-за него по инстанциям, записываясь на приемы все к новым и новым важным лицам. Знал он также, что она делает это не только для того, чтобы выпутаться самой, но и потому, что действительно страшится разлуки. И какая бы мера наказания ему ни грозила, она думает сейчас, что будет ждать его долгие годы, ездить на свидания в далекие края, чтобы жить с ним там, когда ей это разрешат. Но совместное будущее с нею тоже не имело сейчас для Никиты никакого значения. В последние дни он почти не вспоминал о Галине, был с нею груб на единственном свидании, отговаривал ходить по начальству, А о Соне он думал неотступно, пока не овладело его душой то полное равнодушие, которое сделало его бесчувственным к ней и ко всему на свете.
Именно в таком состоянии апатии, к которому со вчерашнего дня присоединилась зубная боль, находился он до этого утра, утра суда. Сейчас же его лихорадило, то и дело он покрывался испариной, и в каждой части тела стучал молоточек, который он не мог остановить. Ему казалось, что до машины, которая повезет его в городской суд, и то не добраться — так била его дрожь и дергал зуб. Если бы сейчас Рахманинова спросили, какое у него единственное желание, он попросил бы беспробудного сна на эти семь дней, с тем чтобы очнуться, когда приговор будет уже оглашен. Или чтобы произошло чудо подмены и кто-то другой мог пройти за него все стадии разбирательства, ответить на вопросы, а он не слышал бы их, не знал об этом совсем и только сам уже отбывал наказание.
За ним пришли около десяти.
— Рахманинов, в суд, — сказал молодой конвойный, открыв дверь. — Что ж ты ничего не ел? — добавил он, поглядев на миску. — Перед судом подкрепиться следует...
У двери стоял другой конвойный, такой же молоденький, как и первый. Оба они были по-деревенски румяны, здоровы, и обязанность сопровождать преступника для них ничего такого особенного не значила, они ее выполняли четко, но благодушно. Второй конвойный был особенно веселого нрава. Никита где-то его видел, тот кивнул ему как знакомому и улыбнулся. Пока Рахманинов влезал в рукава пальто, почему-то ставшего ему тесным, пока вели его на улицу, этот парень пританцовывал, бормоча: «Суд идет, и наш процесс кончается...» — и чувствовалось, что у себя дома он первый гитарист и танцор и по девочкам не дурак. Никита все это замечал, но внешний мир не пробивался к нему, как будто он наблюдал все происходящее из окна вагона.
Когда вошли в здание суда на Каланчевской улице, Рахманинов, проходя по коридору, нечаянно увидел свое отражение в оконном стекле и поразился, как старо и некрасиво он выглядит. «На лбу залысины, морда помята, как у сорокалетнего. С такой будкой надо завязывать существование».
В горсуде шел ремонт. Как все ремонты, он затянулся. Осенние дожди и сырость мешали просохнуть выкрашенным потолкам и стенам. Пахло мокрой штукатуркой. Помещение еще не топилось, и в зале заседаний было холодно и сыро.
Рахманинов с удовольствием опустился на скамью за деревянным барьером, трое конвоиров обступили его, он опустил голову и прикрыл глаза, чтобы еще минуту никого не видеть и не слышать.
Так он сидел, не разгибаясь, за перегородкой, отделявшей его от зала, но краем глаза видел, как впустили публику, как побежала девушка-секретарь с обвязанным горлом, как, положив на стол том его дела, она степенно, сдерживая дыхание, вошла в комнату судьи и сразу же появилась, сказав до шепота сиплым голосом:
— Встать! Суд идет!
В зале задвигали скамейками, люди вставали вразнобой, поднялся за барьером и Рахманинов. Скосив глаза вправо, он сразу охватил взглядом весь зал, лица — матери, Сони, Нины Григорьевны, жены Мурадова, затем увидел справа от себя столы, за которыми привычно друг против друга разместились прокурор Мокроусов и адвокат Сбруев, потом уж стал рассматривать судью и двух народных заседателей.
Когда все сели, судья разложил перед собой материалы дела, шепотом условился о чем-то с народными заседателями — очень полной седоволосой женщиной с ямочками на щеках и добрым ртом и молодым усатым мужчиной с натруженными сухими руками, которые на столе казались непомерно большими. И снова чувство безысходности охватило Рахманинова. Он опустил голову и уставился в пол.
Пока проходили все формальности, он полудремал, прислушиваясь к ноющему зубному нерву. Объявили состав суда, потом посыпались вопросы к жене потерпевшего, обвинителю и к Рахманинову — доверяют ли суду в этом составе. Никита, отвечая, машинально вставал, затем садился и снова погружался в забытье. Судья принялся разъяснять права подсудимому, истице, судебному эксперту. Было выслушано ходатайство прокурора о допуске общественного обвинителя, и после всего этого судья приступил к чтению обвинительного заключения.
Никита ознакомился с обвинительным заключением дней десять назад, и тогда оно вызвало в нем жгучее сопротивление. Может быть, потому, что он впервые увидел себя глазами обвинения, а может быть, из-за языка, которым оно было написано. Все в этом заключении, как показалось Рахманинову, было подведено под логику и лексикон сухого протокольного судопроизводства. Ответы, показания свидетелей и поучительный вывод, вытекающий из всего этого, выглядели казенно, как будто речь шла об инвентаризации или бюджетном балансе. Рахманинов сознавал, что почти все факты обвинительного заключения были верны, но их изложение и истолкование казались ему карикатурно оглупленными.
Сегодня при чтении того же документа он не почувствовал ничего. Лишь бы скорее. Он знал, что чтение займет не менее получаса, и решил использовать это время, чтобы отдохнуть.
Рахманинов попытался забыть, где и зачем он находится, заставить себя думать о чем-нибудь постороннем. Но ни забыть, ни думать о другом он не мог. С приходом судьи и заседателей что-то сдвинулось в его психике. Нервы взвинтились до предела, лихорадка усилилась.