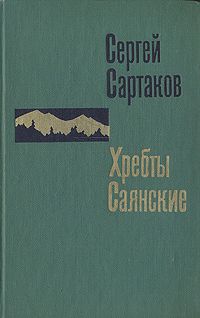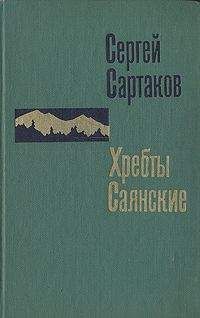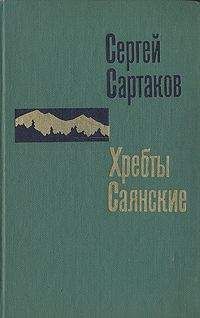Сергей Сартаков - Гольцы
Отойдет, бывало, парнишка один, подумает: и лицо, и речь, и суждение у баб все такое же, как и у мужиков. Только и разница, что баба ребят рожает и для нее это мука. Так ведь не плохое это дело — ребят рожать, — видно, господом ей так положено. И мужики-то ведь все от баб родились. А за что же все-таки ее принижают?
Не выдержал он, спросил одного старика — на слова первый похабник был, но мужик куда умный. Так тот посмотрел на парнишку, засмеялся и говорит: «Эти сказки про баб, может, за тысячи лет до нас сложены. И по закону божьему жена — раба своего мужа, тварь подневольная. Так что тебе, «сопля, зря об этом думать и не надо. Подрастешь, сам узнаешь, правильны ли сказки эти. Конечно, иная баба и не глупее мужика, и в работе ловкая, и о доме заботливая, и в любви не обманчивая. Ну, а с другой, допрежь чем радость узнаешь, сколько горя перенесешь! Замучит, иссушит, если она тебе люба, а ты ей нелюбим придешь. Вот тебе и получается — раба! Нет, пока в жены ее не возьмешь, она над тобой царит. Вот за эту-то трудную любовь и вошла в века у мужиков злоба и нечистый язык на баб…»
Их! Верно ведь это! — вздохнул кто-то на полу.
Цыц ты! Не мешай!
Рассказывай, Пашка…
Отошел парнишка. Неладно стало ему, вроде как страх ему старик к бабам вдохнул. Припомнилось — мужик один перед тем в бане удавился. Из-за бабы, говорили. Хорошее-то в голову никогда не идет, а всякая нечисть лезет, доброе глушит. Стал он девок сторониться. Другие парни — на вечерки, а он — в лес. И похабщину слушать перестал. Чувствовал: растравляют иной побасенкой, внутри как огнем обольет, а раздуматься — суть-то в побасенке самая гадость.
Так вот и стал он дичиться. По тайге да возле реки с ружьем бродил — жизнь не понимал, а все ее обдумывал. И все у него хорошо, ясно выходило… Ну, а как до баб дойдет — путается. Чужие-то россказни ему не впрок. Ничего складного не получается. Хочется бабье нутро, душу ее постигнуть, а ума-то и не хватает. Сказать бы, что баба только для утехи создана… Так нет, в жизни ей место хорошее выходит, и за это уважать ее надо.
Бурмакин смолк, шершавым подолом рубахи вытирая испарину с лица. Кто-то звучно вздохнул. Середа лежал на; нарах, заложив могучие руки под голову, и неопределенно смотрел в пространство.
Прошло время, — продолжал Бурмакин, — возмужал парень. На лицо свежий. Стали девки его задирать. Так он им обидой ответит, а сам стороной старается пройти. На вечерки ни ногой. Гармонь заиграет — ему как ножом по сердцу, ружьишко схватит и в тайгу… Все один и один. И в семье-то один рос — и рос немилым. Будь он или нет, отцу с матерью и горя мало. Меж себя у них каждый день то брань, то драка.
И вот раз летом и случилось с ним такое. Пошел он в праздничный день по болотам, уток пострелять. За брел далеко, а тут дождь. Такой дождь — враз до нитки его промочило. В стороне зимовье. А уже вечерело.
«Дай, — думает парень, — зайду, разожгу огонь, просушусь, а не то и заночую. Хлеба кусок есть, утенка в золе
испеку».
Зашел в зимовье, распалил костер на каменушке — сушить рубаху повесил. Сидит, щиплет утенка. А в лесу вовсе стемнело. Дождь шумит, не перестает. Вдруг открывается дверь, и входит баба. Тоже мокрехонькая-премокре-хонькая, вода с головы, с подола ручьями льет. На руке корзина — грибы, видать, собирала. Узнал он ее. Устя — незадолго перед тем на житье к ним в деревню откуда-то из-под Тамбова, что ли, приехала. И нароком или ненароком, а часто попадалась ему, словно следила всегда, куда он пойдет. Совсем еще молодая, поселилась одна, примерно одногодка с парнем, но говорили, что вроде ранее она уже и замужем была. Схватил рубаху парень, стал натягивать— сам^ волчонком смотрит на бабу. «Уйди!» — ей кричит.
Прислонилась Устя к колоде, корзину на пол поставила, стоит, руками платье обжимает. «Зря ты, голубенок, дичишься меня, — говорит. — Чудно мне: парень ты красивый такой, а девок боишься. Давно я к тебе приглядываюсь, дивуюсь».
Натянул он рубаху, застегнул кое-как.
«Чего тебя сюда занесло?» — «А что? Грибы собирала, с пути сбилась — вот и все. Хорошо, на зимовье набрела. Вон какой дождище хлещет! Дай у огня погреться. Продрогла — зуб на зуб не попадает».
Присела у каменушки — руки синие и в пупырышках, сама дрожит. «Подвинься, дай больше места».
Встал он, ушел от огня вовсе. Молчит. Глядит на Ус-тю, — платье у нее от воды грузное, обвисло, и оттого она вся видна. «Чудной ты, — говорит ему Устя, сама смеется, — что я, зверь какой, так ты меня испугался?»
Отвернулся он, сел на чурбан, к ней спиной. Сам дрожит, рубаха холодная, не успела обсохнуть. Головешки в каменушке трещат. Молчат оба.
Вдруг Устя тихонько по имени его кличет.
Сидит он: может, просто померещилось?..
А она опять — и погромче — зовет его.
Парень молчит, а сердце, чувствует, заколотилось у него и вроде жар по» телу пошел. А голос у Усти такой мягкий, ласковый, будто гладит голосом своим. Говорит, ровно как перекат под шиверкой журчит:
«Нравишься ты мне, голубенок, так нравишься — пуще жизни. Давно за тобой гляжу и думаю: нет в селе парня лучше тебя. А что девок боишься — хорошо: одну любить будешь крепче. Мне бы в жены твои. Я за тобой хоть на край света уйду. Не гляди, что я была замужем, — то не от сердца, от горькой неволи было. Хочешь, все я тебе расскажу?»
И замолкла.
Он тоже молчит.
Припомнил: говорили мужики про Устю всякое… И нехорошее говорили.
А Устя опять: «Мил ты мне. Люб, как солнце. Впервой мы с тобой одни. Ненароком зашла сюда — знать судьба моя, а теперь рада. Свет ты мой утренний!..»
Не стерпел он, обернулся. Стоит Устя и смеется, руки к нему тянет. Сама как тополинка приречная — высокая, статная. Глаза карие, так и блестят, словно насквозь видят. А волосы, как расчесывала их она, от дождя еще мокрые, темные, по плечам распустились. «Нашла я счастье свое, говорит, радость моя».
Подошла к парню. Да как кинется к нему на шею…
Арестанты завздыхали, завозились на полу. Но никто не проронил ни слова, только прежний любопытный парнишка еле слышно прошептал:
Ну, а далее? Далее-то что?
Ударил он ее, — тяжело заговорил Павел, подрагивая ноздрями. — Толкнул. Отошла Устя. У каменуг стала, грудь ходит, будто от воздуху разрывается… Очег она красивая была… Особо в тот раз… Долго так на пар-посмотрела и говорит:
«Не люба я тебе, вижу. Не надо. Только зачем же так Не хотел ты знать бабьей любви настоящей, хорошей не веришь в нее, — может, другой дождешься, такой, кс да сам нелюбим будешь. Попомни и это: без любви ч_ ловек не проживет. А может, время придет, и меня станешь искать — тогда и я найду, как тебе ответит Прощай!..»
Схватила свою корзинку да так в ночь, в темень ушла.
Павел смолк. Закатный солнечный луч прорезался угол решетки, упал на нары, скользнул по косматой бороде Середы. Он лежал с закрытыми глазами, закинув руки под голову.
Ты к чему рассказал эту басенку, арестант? — хрипло выдавил Середа, не открывая глаз.
К тому, — после паузы ответил Бурмакин, — что трудно поначалу жизнь разгадать, как у каждого она сложится и как понять сердце человеческое.
— Ты может, разжалобить меня думал? Я слова своего не меняю.
— Про тебя я вовсе не думал, — спокойно отозвался ему Павел. — И что думать? Все равно не убить тебе меня, Середа. Нё за что.
5
Четвертую неделю стоит сушь. Пожелтела трава в лугах, потрескалась земля на дорогах, не выколосившись, сморщились чахлые стебли пшеницы. И небо, всегда такое голубое, нынче припало к земле, бесцветное, пустое. Солнце жжет повсюду — на открытых полянах, пашнях, лугах, в приникших к реке тальниках и черемушниках, под навесами и крышами домов. Палящий, нестерпимый зной.
Жизнь в городе заметна ранним утром да в вечерние сумерки. А днем, когда солнце обрызжет землю огнем прямых, жгучих лучей, все живое бежит в тень, ищет прохлады.
Уда обмелела. Далеко от берегов, к середине, вытянулись длинные россыпи-косы. В затонах белыми хлопьями качается пена. И уже не шумят, а только журчат перекаты и шивепы. Открылись глубины — с высокого яра можно пересчитать камни на дне по всей реке. Вода стала светлая-светлая, ни песчинки, ни илинки. Студеные струи согрелись. Над рекой метелицей вьются бабочки-капустни-Цы, стрекозы. Серые поденки падают в воду, тонут и, выброшенные прибоем, устилают берега.
Только на вершинах хребтов, в гольцах, на нетающих снегах, откуда резвой змейкой сбегает в долину Уда, только в кедрачах, в густых ельниках веет свежестью и прохладой. Плотно смыкаются там смолистые кроны деревьев, высокой стеной подымаются утесы, берегут, закрывают от солнца Уду.
Табуном оленей разбежались отроги Саянских хребтов. " синем мареве потерялись на западе и на востоке черные осыпи гольцов, а вокруг затопила все непроглядная, зеленя, дремучая тайга. И над нею серебряными зубцами устремились к небу снежные вершины Мангараша, У ляхи Орзогая.